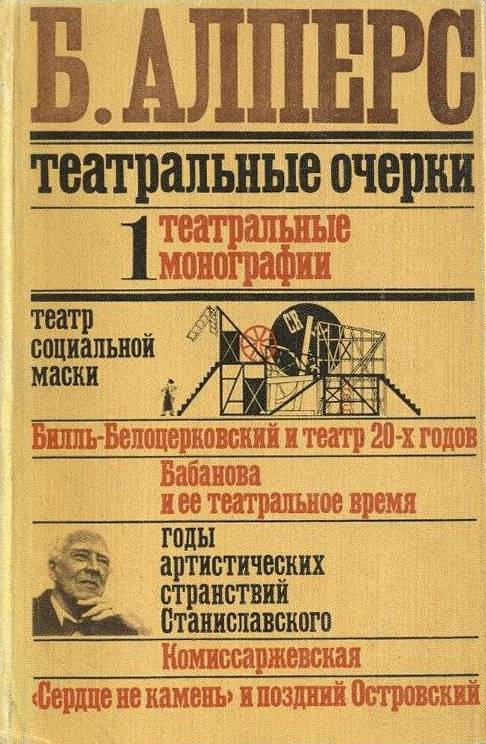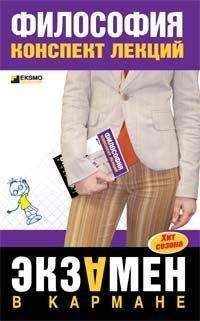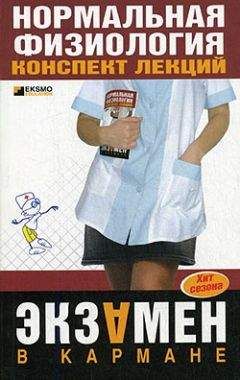сам очарованный эстетически значимыми вещами, Зиммель может служить для дилетанта, желающего узнать что-то о Рембрандте, кем-то вроде носителя языка, сообщающего путешественнику в далекой стране важные сведения о местных обычаях [253].
Ученые, недолго думая, осудили старика, изображенного Рембрандтом за разглядыванием монеты при свете свечи, окруженного кошелями с деньгами и бумагами в полутемной комнате (ил. 140). Они замечали, что вести себя подобным образом – не по-христиански и, опираясь на библейскую притчу о неразумном богаче, приписывали картине нравственно-назидательный смысл. Сохранилась гравюра Блумарта под названием «Жадность», на которой также показана женщина, рассматривающая монету при свете свечи. Ничто не мешает предположить, что решение Рембрандта изобразить пламя свечи полускрытым подсказано произведениями таких утрехтских художников, как Блумарт и его последователи. Однако картина Рембрандта сильно отличается от работ его возможных предшественников [254].
Обсуждая денежные дела, стоит упомянуть о том, к каким сюжетам Рембрандт не счел нужным обратиться. Других живописцев той эпохи, творивших в стиле утрехтских мастеров, например Вермеера с его картиной «У сводни», привлекала тема продажной любви – той связи денег и секса, которая подразумевается во многих картинах Терборха и ван Мириса (ил. 141). Единственная художественная вылазка Рембрандта в царство коммерции, основанной на торговле любовью, осталась исключением, подтверждающим правило. Играя роль блудного сына в паре со шлюхой-Саскией на дрезденской картине «Блудный сын», именно он, а не явно безучастная Саския, наслаждается разорением супружеского хозяйства и берет на себя ответственность за его крах (ил. 44). Несмотря на весь ее блеск, картина кажется на удивление поверхностной и пустой, лишенной психологической сути, поскольку Рембрандта мало интересовал тот вариант олицетворяемого женщиной искушения, изображавшегося в различных видах, от дерзкой демонстрации наготы до двусмысленной позы, который запечатлевали другие художники, от ван Бабюрена до Терборха, стремившиеся показать, какую угрозу являет женщина «домашнему мироустройству». Не случайно, что, хотя изображенная сцена явно подразумевает изобильное расточение как имущества, так и сексуальной энергии, деньги в этой сексуальной сцене никак не обозначают своего присутствия [255].
В отличие от многих голландских живописцев, Рембрандта не интересовали противоречия между семьей, домом, с одной стороны, и внешним миром, с другой; более того, он был нечувствителен к подобным противоречиям. В результате его домашние сцены, запечатленные на большом количестве собранных в альбоме рисунков и изображающие эпизоды из жизни женщин и детей, оказываются лишены морального послания и не прославляют «домашнее мироустройство», что было обычным делом для других голландских художников [256] (ил. 73, 143). Это объясняет «современный» облик изображенных Рембрандтом детей, которые учатся ходить, или женщин, читающих или лежащих в постели, по сравнению с добродетельными матерями семейства, укачивающими или кормящими детей, или чинящими белье, вроде тех, что предстают на картинах Питера де Хоха, Николаса Маса и других (ил. 69). Рембрандт показывает женщин и детей вне зависимости от господствовавших в то время идеалов семьи и дома, а также вне театральных инсценировок, которые он практиковал у себя в студии.
Деньги нечасто становятся сюжетом работ Рембрандта, но всякий раз, когда это происходит, они появляются в безусловно публичном контексте: здесь можно упомянуть «Раскаявшегося Иуду, возвращающего сребреники», «Христа, изгоняющего торгующих из храма», «Динарий кесаря» (авторство которого оспаривается), «Притчу о работниках на винограднике», гравированный портрет сборщика налогов Эйтенбогарта; косвенно к ним примыкает и групповой портрет синдиков цеха суконщиков. Заменяя традиционный золотой дождь потоком света на эрмитажной «Данае», Рембрандт, возможно, пытался избежать слишком прямолинейной связи между сексом и деньгами. Если передать это в терминах экономики, один-единственный феномен рынка заменяет восходящее к Аристотелю различие между экономикой домашнего хозяйства (oikonomike) и накоплением богатства, относящимся к миру коммерции (chrematistike).
Чем же, в таком случае, привлек Рембрандта так называемый «Меняла»? Хотя персонаж подносит к свече монету, а еще несколько разбросаны возле весов на столе перед ним, монеты – лишь малая часть антуража, в котором изображен персонаж на берлинской картине. На мысли о накопленных богатствах, а следовательно, о благополучии, уверенности и защищенности, наводит замкнутое пространство, созданное освещенным полукругом книг в темной комнате. Старик в очках, вперивший взор в монету, и громоздящиеся вокруг него стопки книг напоминают распространенный в Антверпене в XVI веке тип картин с изображением банкиров, в частности – кисти Маринуса ван Реймерсвале. Однако картину Рембрандта отличает от работ его предшественников атмосфера некоей самоуглубленной созерцательности, которую создают и усиливают композиция и манера письма. В Амстердаме XVII века, как и в Антверпене в предшествующем столетии, коммерческие практики считались противоречащими традиционным религиозным устоям. Зиммель, в числе прочих, замечал, что страсть к накоплению есть признак капиталиста. «Накопляйте, накопляйте! В этом Моисей и пророки <…> Накопление ради накопления, производство ради производства <…>», – писал Маркс и продолжал в выражениях, вполне применимых к рембрандтовскому «Меняле»: «Лишь как персонификация капитала капиталист пользуется почетом. В этом своем качестве он разделяет с собирателем сокровищ абсолютную страсть к обогащению» [257]. Хотя берлинская картина была написана Рембрандтом еще в бытность его в Лейдене, в ней отразилась страсть художника к накоплению, которую он смог удовлетворить впоследствии, собрав собственные коллекции и создав собственные произведения искусства. В «Меняле» Рембрандт отдает дань своему увлечению.
Для Рембрандта накопление ассоциировалось не только с денежными операциями и, в частности, с переходом из рук в руки золота, но и с любовным и изобильным переносом краски на холст. Иногда в его композициях, – например, на «почетной цепи» Аристотеля или на причудливом золотом шлеме «воина» – золото и краска слиты воедино. Здесь мы наблюдаем сочетание алчности и расточительности, как сказал бы Зиммель, описывая эстетизированную любовь к деньгам [258]. Страсть к деньгам и страсть к краске мы можем оценить как стремление к чему-то в конечном счете нематериальному – и именно они пробуждают вкус к созерцанию, который мы стали обозначать как эстетический. В «Меняле» Рембрандт намеренно подчеркивает эту связь.
Существуют свидетельства о том, что новая рыночная экономика пришлась Рембрандту по вкусу не только потому, что он жаждал свободы от меценатов, но и потому, что жаждал свободы для себя самого. Подобное стремление к свободе было свойственно и ему как личности, и той экономической системе, частью которой он был. Если говорить о человеческих «отношениях» в студии, то их квинтэссенцией выступали постановочные рисунки пером и размывкой или офорты мастера, а в живописи их воплощали только ученики и ассистенты. При создании картин Рембрандт предпочитал – по крайней мере в поздний период – поясные или поколенные однофигурные композиции: в наиболее характерных его произведениях той эпохи герой запечатлен в одиночестве.