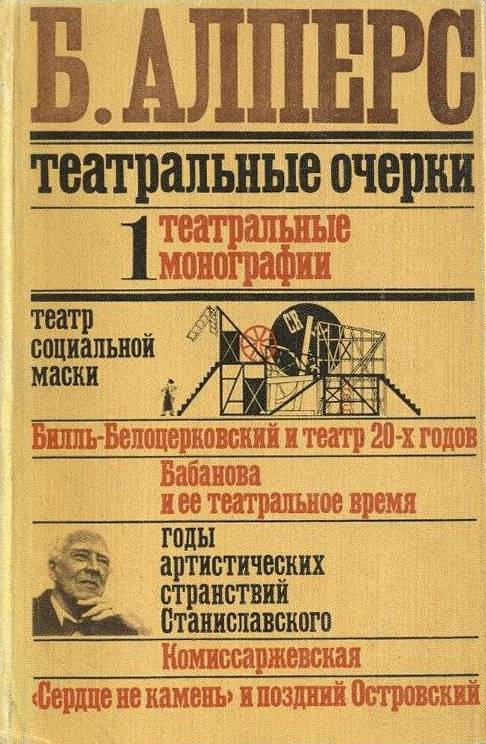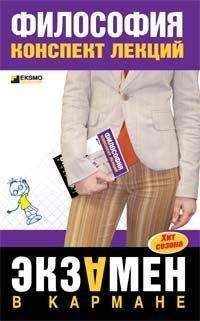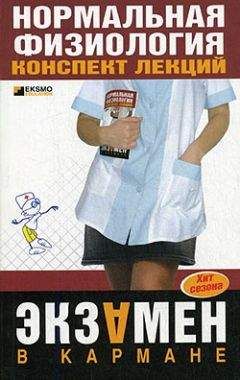портреты других художников: автопортреты, выполненные не для монархов, а для простых клиентов, портреты живописцев за работой, например голландские картины, изображающие художника за мольбертом с музыкальным инструментом в руках (это далеко не всегда автопортреты), и те автопортреты художников, которые не отсылают к профессии, но демонстрируют его принадлежность какому-либо социальному институту, например семье. Рубенс, очень не любивший писать себя самого, создавал автопортреты только для короля и для друзей или запечатлевал себя вместе с женами. Даже если художник предназначал автопортрет в подарок другу, как, в частности, Пуссен – Пуантелю и Шантел́у, в основе такой картины лежало стремление очертить и обозначить дефиницию Искусства, определить статус художника. В этом смысле иконографические исследования не ошибаются. Я хотела бы обратить внимание не столько на различия во взглядах на искусство и художников, сколько на тот факт, что подобные взгляды были широко распространены, часто находили материальное воплощение в художественных произведениях и обсуждались [265].
Хотя один из его автопортретов попал в принадлежавшую английскому королю Карлу I коллекцию портретов художников, Рембрандт никогда не писал себя по повелению монарха (ил. 95). Замечание Бальдинуччи о том, что Рембрандт не примет даже могущественнейшего правителя, пока не отложит кисти, «от противного» содержит тот кодекс поведения, которому надлежало следовать живописцу на службе у монарха [266]. Когда Рембрандт щеголяет в золотой цепи или в доспехах – это лишь пример инсценировки, не выходящей за пределы студии. Даже лондонский автопортрет 1640 года, являющийся исключением в творчестве Рембрандта, поскольку он открыто заявляет о своем родстве с художественной традицией, по-видимому, представляет собой студийную версию автопортрета, предназначавшегося для широкой публики (ил. 144). Хотя он, видимо, был написан в угоду вкусам меценатов и в соответствии с требованиями их мира, едва ли его повелел создать какой-то знатный заказчик. Ливерпульская картина из собрания Карла I – один из всего лишь двух автопортретов, обозначенных как таковые в описях при жизни Рембрандта; второй принадлежал торговцу картинами Де Рениалме. Король и торговец – эта пара представляет, соответственно, старый мир патронажа и новый рынок сбыта автопортретов [267].
Сначала Рембрандт писал автопортреты для своей студии, потом для самого себя, и наконец – для рынка. Второе и третье он не разделял. Поскольку он начал создавать автопортреты не для того, чтобы предъявить миру свой образ, образ художника, как он его понимал, а чтобы упражняться в студии, Рембрандт сумел превратить жанр автопортрета в новый образ личности [268]. Написать себя за созданием картины, изменить привычный тип подобных портретов во имя себя самого – это было новаторским деянием. Здесь необходимо внести уточнения. Хорошо зная работы Ван Гога и Сезанна, мы привыкли считать жанр автопортрета центральным в творчестве художника и склонны думать, что он существовал всегда и изобретать его не было нужды.
Несколько лет тому назад Мейер Шапиро и Жак Деррида вступили в дискуссию по поводу данной Мартином Хайдеггером интерпретации картины Ван Гога, изображающей башмаки. В центре дискуссии оказалось отношение художника к своей работе. Коротко говоря, Хайдеггер описывал изображенные Ван Гогом башмаки как утилитарный объект, а картину – как запечатленную автором суть их утилитарного назначения, утверждая, что «картина Ван Гога есть раскрытие, растворение того, что́ поистине есть это изделие, крестьянские башмаки», а Шапиро возразил на это, что башмаки – не утилитарный предмет, а «важная часть личности» художника, «присутствие художника в произведении», «часть автопортрета». Деррида же протестовал против такого толкования, говоря, что на картине перед нами – не башмаки и не пример автопортрета, поскольку картина обнаруживает отсутствие и башмаков, и художника: «Donc une œuvre comme le tableau aux chaussures exhibe ce qui manque à quelque chose pour être une œuvre, elle exhibe – en chaussures – le manque d’elle-même, on pourrait presque dire son propre manque» [269]. Итак, от утилитарного предмета, изображенного на холсте краской, к башмакам художника как некоей версии автопортрета, а от нее уже – к просто картине. Если говорить об отсутствии, то Деррида писал нечто подобное и о природе текста вообще, однако мысли Хайдеггера о предметах и Шапиро – о личности художника помогают нам постичь особые свойства живописи (я имею в виду именно станковую живопись), созданной в рамках нашей традиции [270].
Ведь в формуле «я пишу картины, следовательно, я существую» есть еще одна важная составляющая: в отличие от писателя, художник определяет или осознает себя через материальный объект – в частности, отождествляя себя с этим объектом, причем в случае Рембрандта, как мы видели, подобному отождествлению способствовала сама осязаемость, материальность краски [271]. Можно сказать, что Рембрандт двояко размышлял о себе посредством живописи: в самом акте творения и – принимая форму картины, сливаясь с ней. Тонкая полоска холста, едва заметная вдоль правого края кенвудского автопортрета, столь узкая, что ее часто отрезают на репродукциях, полоска холста, которой не коснулась его кисть, – это его антииллюзионистский способ привлечь внимание зрителя к тому, что́ есть бытие художника (ил. 24). Оригинальным образом сведенное к минимуму, изображение холста под стать руке, как мы уже видели выше, сконструированной из атрибутов живописца. Именно на холсте, через краску – обратите внимание на толстый слой свинцовых белил, из которых «вылеплен» простой колпак художника, на мазок красной краски на кончике носа, – а также посредством муштабеля, палитры и кисти Рембрандт познает себя. Подобный метод постижения уместнее назвать не самопознанием, а самообладанием, владением собой. Поздние автопортреты – это яркое свидетельство личности, владеющей собой, а значит, и принадлежащей себе, являющейся своей собственностью. Парадокс заключается в том, что личность – «я» как собственность, «я» как предмет обладания – становятся, если говорить об автопортретах Рембрандта, предметом рыночных сделок в буквальном смысле слова. Выходит, что мы, подобно Рембрандту, описали круг: его картины суть товары, отличающиеся от прочих тем, что их отождествляли с ним самим, а он, создавая их, в свою очередь превращал в товар себя. Если вспомнить слова Декана, он любил только свою свободу, искусство и деньги. Или, если выразиться иначе, чтобы подчеркнуть связь между этими понятиями, Рембрандт выступал владельцем предприятия, производящего его собственное «я».
Рассматривая Рембрандта как пример pictor economicus, мы одновременно рассмотрели под иным углом зрения те аспекты его практики, которые обсуждались в предыдущих главах: его одержимость работой над красочной поверхностью картины, превращение студии в сферу, где жизнь инсценируется, разыгрывается под его режиссерским руководством, желание освободиться от системы патронажа, притязания на неповторимую индивидуальность. Вопрос о его отношении к традиции также можно прояснить через его отношение к рынку.