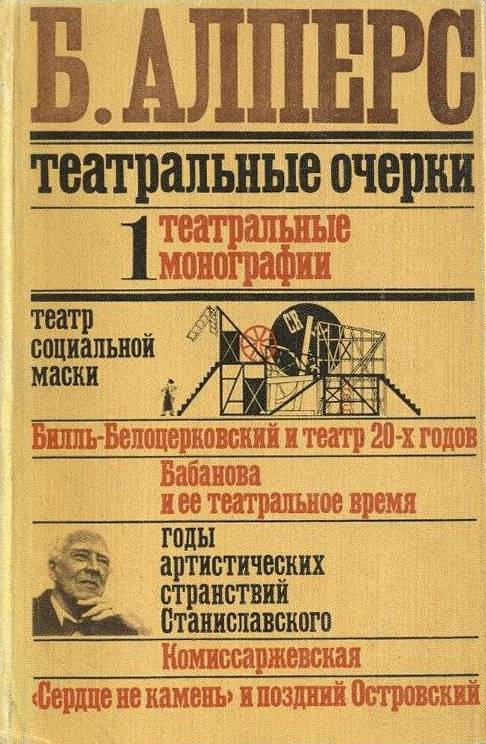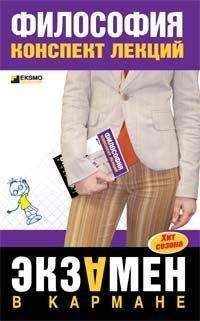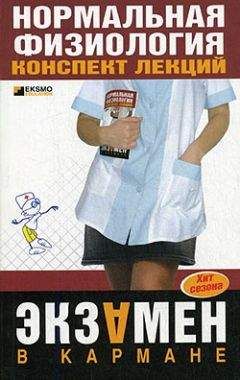Мы истолковали обвинения в том, что он-де общался с представителями низших классов, как реакцию на отказ Рембрандта соблюдать нормы благопристойного поведения, предписываемого системой меценатства. Однако, по слухам, сам Рембрандт объяснял такое свое поведение иначе. Для него оно выражало стремление к свободе.
Роже де Пиль и, вслед за ним, Хаубракен писали, что Рембрандт говорил, будто любит бывать в компании простых людей потому, что ищет не чести, а свободы: «Quand je veux délasser mon esprit <…> ce n’est pas l’honneur que je cherche, c’est la liberté» [259] – или, в голландском переводе Хаубракена: «Als ik myn geest uitspannige wil geven, dan is het niet eer die ik zoek, maar vryheid» [260]. Последнюю часть фразы принято понимать так, как если бы Рембрандт имел в виду то, что мы и сегодня считаем свободой личности. Однако эта фраза, где провозглашается главенство свободы личности над честью, самим использованием слова «честь» отсылает к топосу «eer voor goet» («честь превыше богатства»), который молодой Рембрандт процитировал в альбоме Гроссмана. Честь, ценимая превыше земных благ в первой фразе, затмевается свободой личности во второй. В данных примерах затронуты проблемы, которые во времена Рембрандта стали вызывать особый интерес в контексте рынка. Здесь сопоставляются два разных типа ценности, взаимно обусловливающие друг друга: ценность, которая устанавливается на рынке, и ценность личности, удовлетворяющей требованиям этого рынка. Вместе взятые, они создают основу идеологии свободного рынка и свободной личности, которую современное общество в значительной мере унаследовало от Голландии Рембрандта.
Тема «Рембрандт и индивидуализм» или «Рембрандт и индивидуальность» стала общим местом в посвященной его творчеству исследовательской литературе. Вот что говорит, например, Юлиус Хельд: «Сам Рембрандт всегда ревностно оберегал свою индивидуальную независимость. Его искусство в конечном счете обязано своим величием тому, что он никогда не шел на компромисс, никогда не позволял себе принять такое бремя, как пожалованная в награду золотая цепь, и яростно защищал неприкосновенность своего искусства и свою личную свободу» [261]. С этим можно согласиться, но Хельд использует здесь ряд неоднозначных слов и выражений, никак их не объясняя. Действительно ли нужно подобным образом отождествлять искусство с тем, что принято называть свободой и личностью художника? С точки зрения истории, представление о человеческом «я», о личности и о восприятии ею себя самой сильно менялось на протяжении столетий. Например, взгляды Рембрандта на индивидуальность как только не интерпретировали, ссылаясь на религию, философию и поэзию [262]. В предыдущей главе я предположила, что изобретение «эффекта» индивидуальности, производимого его работами, было способом держать под контролем мастерскую. Сейчас я хотела бы добавить, что оно явилось еще и следствием экономической системы, в которой он жил и играл активную роль. Именно в эпоху Рембрандта личность стали определять в новых для того времени экономических терминах. Знакомые всем слова американской Декларации прав человека о праве «на жизнь, свободу и стремление к счастью» – это перефразированное определение собственности («сохранени[е] своих жизней, свобод и владений, что я называю общим именем „собственность“»), сформулированное Локком: «Под собственностью я <…> подразумеваю здесь ту собственность, которой люди обладают на самих себя, равно как и на свое имущество». Если стать на эту точку зрения, личность определяется правом владеть собственностью. А наиболее важное право собственности для каждого человека, а значит, и основа этого представления о личности, как бы странно это ни прозвучало, есть право владения самим собой, право собственности на самого себя. Тогда свободу можно понимать как право собственности на свою личность и способности, право владеть и распоряжаться ими. Я хотела бы обратить внимание на присущие этому определению личности смысловые оттенки собственничества. Именно Рембрандт сделал право собственности на самого себя и свои способности основой своего искусства, да и, пожалуй, искусства в целом [263].
Особенно это заметно, если проследить, как Рембрандт создавал автопортреты, причем не ранние, а поздние, выполненных после затишья 1640–1648 годов. Теперь они уже не служат этюдами, фиксирующими выражение лица, особенности освещения или костюма. Пропадают даже немногие студийные аксессуары, встречавшиеся в ранних работах: золотые цепи, шляпы с плюмажем, доспехи; отныне Рембрандт внимательно концентрируется, фокусируется на самом себе. Мы говорим, что эти поздние работы обнаруживают или открывают нам глубину, словно их отличает от остальных стремление Рембрандта глубже заглянуть в себя. Между тем, наоборот, здесь всё на поверхности – в том смысле, что художник высматривает себя в краске. Не вглядывается в себя, а приближается к картине настолько, что отождествляет с нею собственное «я», себя самого. Телесная вещественность многих его поздних работ, проявляющаяся не только в толщине красочного слоя, но и в своеобразном слиянии краски и плоти, которое можно отметить в «Лукреции» (ил. 116), «Клятве Клавдия Цивилиса» (ил. 4), «Воловьей туше» (ил. 117) и «Автопортрете с подстреленной выпью» (ил. 118), свидетельствует о растворении личности Рембрандта в живописи.
Саморепрезентацию Рембрандта можно было бы описать так: «Я пишу красками, следовательно я существую». Вернувшись к жанру автопортрета после восьмилетнего перерыва в 1648 году, он изобразил себя на офорте в амплуа художника, рисующего (или, может быть, гравирующего доску для офорта) у окна (ил. 142). Почти все автопортреты, созданные после 1648 года, выполнены в технике живописи. А на кенвудском (ил. 24), луврском и кёльнском автопортретах Рембрандт впервые пишет себя масляными красками в образе художника за работой, облаченного, как пристало в мастерской, в грубую блузу. Изображая себя в таком виде, Рембрандт не столько обращается к традиционной разновидности портретного жанра, не столько примеряет еще одну «роль», роль художника, сколько полностью, окончательно сливается со своей живописью, образуя с ней единое неразделимое целое. Он не определяет себя с профессиональной точки зрения как художник, он определяет свое собственное «я» через краску, свой материал [264].
Портреты и автопортреты художников в Нидерландах писались во множестве. Хотя они составляют лишь малую часть подобных произведений, автопортреты, созданные по заказу королей и принцев, во многих отношениях были квинтэссенцией данного поджанра, и знаменитая галерея автопортретов художников, собранная Медичи, в полной мере дает представление об интересе, который сильные мира сего испытывали к подобным картинам. Иногда при заказе особо оговаривалось, что художник должен изобразить себя в процессе создания картины или держащим в руках миниатюру с изображением фигур, написанных его рукой, – именно такие требования предъявил агент Медичи ван Мирису. Автопортреты подобного типа констатировали и утверждали установленный порядок: художник, воспринимавшийся как служитель принца, преподносил ему свое изображение, способствовавшее укреплению определенного социального порядка и упрочению определенного взгляда на искусства (ил. 27). Ту же идею транслируют и