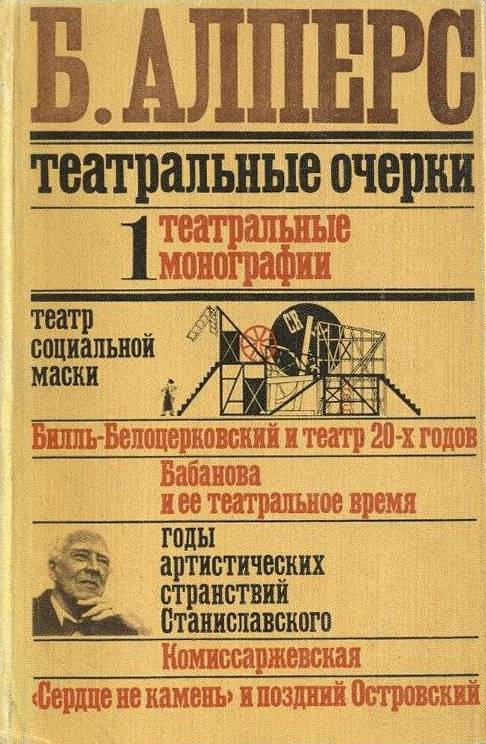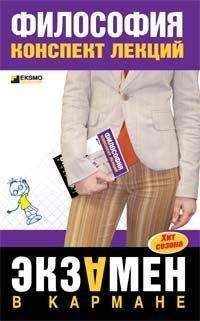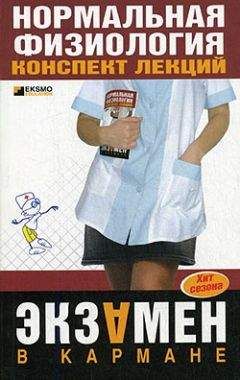Даже беглый обзор художественной и педагогической деятельности Рембрандта убеждает в том, что обнаружить источники, на которые он мог опираться, очень нелегко. Воспитывая учеников и ассистентов, он ориентировался на собственный творческий опыт и неохотно признавал какие-либо авторитеты, кроме собственного. Тому можно привести немало примеров, из которых я ограничусь двумя. С точки зрения религии можно утверждать, что в подобной позиции, учитывая ее непреклонность и упрямство, проявляется протестантская вера Рембрандта (тогда как, например, перешедший в католичество Рубенс с легкостью склонялся перед художественными авторитетами и политической властью и жил в абсолютной гармонии с ними). Поскольку, говоря о создании, хронологической последовательности и взаимовлиянии картин, нельзя уйти от разговора об их истоках, можно рассмотреть эту проблему и в психологических терминах. Нетрудно заметить, что в творчестве Рембрандта немалое место занимает такой сюжет, как сложные отношения между мужчинами разных поколений: здесь можно назвать отца и блудного сына, Авраама и Измаила, Иакова и сыновей Иосифа. Конечно, и в Ветхом Завете, излагающем историю племен израильских, и в Новом Завете, повествующем о Господе и о Сыне Господнем, вопрос родительской власти и наследования занимает центральное место. Однако и Рембрандт уделяет отношениям отцов и сыновей особое внимание и всячески подчеркивает их драматизм. Наследование и передача власти сопровождаются для отцов и властителей травмами, ранами и увечьями: Саул предстает перед Давидом в смятении, меланхолии и скорби, Товия помогает слепому Товиту, слепой Иаков благословляет своего внука, к одноглазому Клавдию Цивилису присоединяются его сторонники. Смена поколений и наследование сыновей отцам особенно убедительно и уместно показаны на двух картинах, которые, по-видимому, остались незавершенными на момент смерти Рембрандта: «Возвращение блудного сына» представляет собой драматическую версию этой темы, а «Симеон во храме с Младенцем Христом (Сретение)» – умиротворенную.
Отношение художника к традиции аналогично отношению к власти Господа или отца семейства. Два высказанных мною только что соображения о том, как относился к традиции Рембрандт, в принципе не противоречат правде. Однако они отсылают к чему-то внешнему по отношению к картинам Рембрандта – к восприятию им Бога или к страху перед отцом – и никак не отражают его художественную практику. Если картины Рембрандта – его собственность, то страх и тревогу, внушаемые ему традицией, также можно интерпретировать как следствие того же самого желания показать, что его произведения принадлежат ему, которое, как мы видели, проявлялось во многих аспектах его искусства.
Не раз уже говорилось, что в эпоху Ренессанса господствовало представление об искусстве и художниках, отличное от того, что мы унаследовали от XIX века; что Возрождению была свойственна верность традиции, стремление скорее к подражанию, нежели к оригинальности. Этим объясняется принятая у историков искусства практика «искать источники»; при этом они не только демонстрируют «одержимость источниками», но и предостерегают от неадекватного, когда дело касается искусства этого периода, стремления обнаружить в нем оригинальность или творческое новаторство. Рембрандт соотносил себя с традицией не ради подражания и не ради оригинальности, а ради того, чтобы владеть собой. Нам потребуется третье обозначение; пожалуй, подойдет слово «собственность». Рембрандт с явной опаской обращается к творческому наследию прошлого, поскольку нуждается в средствах, которые может назвать собственными.
Если вернуться к тем проблемам аутентичности и атрибуции, с обсуждения которых мы начали книгу, то почему же тогда свойственное Рембрандту ощущение права собственности на свое «я» не помешало ему бесконечно размножать это «я» во всех сферах своего творчества: в многочисленных автопортретах, в непрестанных переработках изображений на гравировальных досках и в печатании всё новых и новых оттисков с них, в бесчисленных картинах и рисунках, выполненных его ассистентами в его манере? Почему оно не помешало Рембрандту поощрять других художников писать так же, как он, фактически выдавая себя за него? Ведь на автопортреты Рембрандта можно взглянуть и с иной точки зрения, рассмотреть их не как отдельные произведения живописи, а в комплексе, как размноженные варианты одного типа. Рембрандт был не единственным голландским художником, который часто изображал самого себя. И он сам, и его ученик Доу, и ученик Доу ван Мирис – художники трех поколений – писали автопортреты. К тому же интерес к умножению и повторению собственного образа питали не только живописцы: многие их патроны-купцы тоже вновь и вновь заказывали свои изображения. Якоб Трип и его жена предстают, по крайней мере, на десяти различных портретах (возможно, их было больше, остальные просто до нас не дошли) (ил. 128, 129). Гипотеза, выдвигавшаяся в качестве объяснения этого феномена, что все члены большого семейства хотели иметь у себя дома изображение родителей, оставляет открытым вопрос: все ли эти портреты были написаны с натуры? В голландском обществе той эпохи интерес к репрезентации личности был неразрывно связан с идеей ее повторения, размножения в копиях. На примере Рембрандта можно проследить общую тенденцию [272].
Рембрандт изображал себя чаще других художников своего времени: примерно пятьдесят раз на живописных портретах, двадцать раз на офортах и около десяти – на сохранившихся рисунках. Кроме того, он позировал другим художникам, по крайней мере в юности: его портрет работы Ливенса, и другой, выполненный Флинком (в пару к портрету Саскии), вселяют в нас тревогу: ведь как бы ни различались по стилю многочисленные автопортреты мастера, мы привыкли доверять его собственному взгляду на самого себя, а не восприятию Рембрандта кем-то другим (ил. 145, 146). Впрочем, здесь, в картинах, авторство которых не вызывает сомнений, ясно, в чьих руках находится власть: вот Рембрандт, каким видел его Ливенс, вот Рембрандт, каким видел его Флинк. Но как отнестись к появившейся у Рембрандта уже в молодые годы привычке поручать копировать свои автопортреты ученикам? Весьма вероятно, что кассельская картина (ил. 148) – это копия находящегося ныне в Амстердаме рембрандтовского «Автопортрета» (ил. 147), написанная и взятая домой учеником. Более свободную манеру наложения краски на кассельской версии, которую прежде искусствоведы называли «более точной», вероятно, можно объяснить отсутствием натурщика. Словно бы возмещая это отсутствие, копиист более отчетливо прописывает глаза изображенного – глаза, которых на самом деле в это мгновение он перед собой не видел.
Рембрандт поощрял своего ученика, когда тот взялся копировать его автопортрет, сам по себе представлявший студийную работу, для которой он выступал моделью. Но что же такое автопортрет, написанный другим? Может ли существовать копия автопортрета? Можно ли по-прежнему называть ее автопортретом, или это уже портрет, написанный другим художником, вроде портрета кисти Ливенса? Может быть, это автопортрет, не написанный собственноручно, а интересующий нас вопрос касается уже не философии, а растворения «я», диффузии личности. К числу картин, подобных кассельской, мы должны добавить те, что