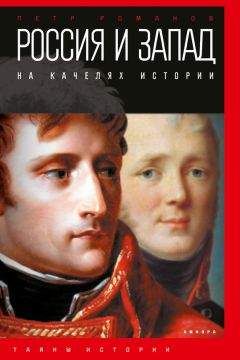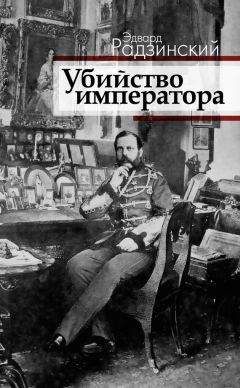Между тем карта панславизма была в глазах творца новой европейской сверхдержавы отыграна. В славянофилах он больше не нуждался. «Горчаков и Шувалов, - замечает французский историк, - к великому своему изумлению уже не нашли у Бисмарка того расположения к России, на которое они рассчитывали: одно лишь холодное и суровое беспристрастие, ни малейшей поддержки ни в чем»[82].
Конгресс, открывшийся в июне 1878 года, разделил Болгарию, задуманную как главный инструмент российского влияния на Балканах, на три части, одним ударом лишив тем самым Россию всех
плодов победы. Горчаков, разумеется, протестовал. Но к еще большему его изумлению главными противниками России вдруг выступили сербы, ради которых война, собственно, и затевалась.
Впрочем, это было естественно. Братство братством, но не желала Сербия усиления своей балканской соперницы. И земли, которые Горчаков намеревался подарить Болгарии, считала своей законной добычей. В конце концов заботилась она о Великой Сербии, а вовсе не о возрождении болгарской империи. В 1913 году она еще и нападет на Болгарию в союзе со своими смертельными врагами турками. Подумать страшно, что приключилось бы с Данилевским или Иваном Аксаковым, доживи они до такой кощунственной, с их точки зрения, межславянской резни.
Но самое главное, словно в насмешку над славянофильскими надеждами «забытое, забитое болгарское племя», едва обретя независимость, устремилось туда же, куда прежде него рванулись и греки, и сербы, и даже черногорцы, т.е. к проклятой «европейской гражданственности».
А Россия что же? Она - после войны, едва не приведшей к государственному банкротству - с чем была, с тем и осталась. Хуже того, поссорившись со вчерашней союзницей Румынией (у которой она отняла Бессарабию), Россия оказалась дальше от Константинополя, чем когда бы то ни было.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
Англия, с другой стороны, получила Кипр, Австрия - Боснию и Герцеговину. На самом деле, как и запланировал Бисмарк, она была теперь куда ближе России к Константинополю. «В истории немного найдется таких странных и несправедливых решений», - заключает тот же французский исследователь[83].
Зачем нужна была война?
Невозможно описать разочарование, чтобы не сказать отчаяние, славянофильской интеллигенции. После всех вложенных в «освобождение славян» усилий, после всех надежд и упований, связанных с Константинополем, после десятков тысяч жизней, положенных на болгарских полях, закончить ничем? Старая гвардия никогда не простила этого Александру II. Как, впрочем, и молодая.
Что было, конечно же, несправедливо. Во-первых, он не делал секрета из своей принадлежности к партии мира и толкали его на войну именно они, панслависты. А во-вторых, император ведь тоже не обрадовался такому исходу. Ибо кому же мог он быть выгоден, кроме нигилистов, охотившихся за ним, да либералов, убежденных в полной бездарности самодержавия? Александр Николаевич просто ничего не мог с этим поделать. Все предприятие не имело смысла. С самого начала.
В либеральных кругах вспоминали записку Дмитрия Милютина, родного брата знаменитого Николая, в которой еще задолго до войны совершенно точно предсказывался её бедственный исход. Хотя Дмитрий Милютин, как и его брат, имел репутацию либерала, он все-таки был военным министром, ответственным за реформу армии, и, следовательно, знал, что говорил. «Ни одно из предпринятых преобразований, - писал он, - еще не закончено. По всем отраслям государственного развития сделаны или еще делаются громадные затраты, от которых плоды ожидаются лишь в будущем... Война в подобных обстоятельствах была бы поистине великим для нас бедствием»105.
Так оно, конечно, и получилось. Но ведь даже и Милютин не задавался главным вопросом: зачем, собственно, нужна была России эта война? Если исключить полубезумные и, как мы видели, совершенно безосновательные грёзы славянофилов о «славянском братстве» и еще более эфемерные надежды Достоевского на «спасение европейского человечества» посредством русского господства в Константинополе, то и вправду - зачем? Пожалуй, один лишь Владимир Соловьев задумывался тогда над этим основополагающим вопросом. Мы помним его приговор: «Но самое важное было бы узнать, с чем, во имя чего можем мы вступить в Константинополь? Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного государства, принципов цезарепапизма, заимствованных нами у греков и уже
погубивших Византию? Нет, не этой России, изменившей лучшим своим воспоминаниям, России, одержимой слепым национализмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо Вторым Римом»[84]. Разумеется, за всей славянофильской декламацией и «вставанием с колен» могли в принципе стоять и вполне прагматические соображения. Например, о Балканах как о потенциальном рынке для российской индустрии. Или геополитические расчеты контролировать Босфор. Могли стоять, но ведь не стояли же! Немыслимо даже представить себе, чтобы тогдашние купеческие тузы оказались сильнее партии мира, возглавляемой самим царем. А что до контроля над проливами, то ведь, как мы помним, у России и флота в ту пору не было. Куда уж ей с её пятью вооруженными коммерческими пароходами против двадцати турецких броненосных судов, не говоря уже о самом могущественном тогда английском флоте, который тоже стоял на причале у Константинополя?
Просто нет другого рационального объяснения причин этой злополучной войны, кроме очередного приступа патриотической истерии, искусно спровоцированного Бисмарком - при активном участии славянофилов. Это было дурное знамение. Конкретно говоря, эта злосчастная война обнаружила два новых (и громадной важности!) внутриполитических фактора, которым отныне предстояло определять судьбу страны - надолго.
Первый из них был такой. Если в крымскую катастрофу втянула страну казенная Русская идея, государственный патриотизм, подогревавший сверхдержавные страсти царя Николая, то ведь в 1870-х ничего поденного не было. Александр II войны не хотел, либеральная бюрократия, как мы видели, и слышать о ней не желала, государственный патриотизм давно почил в бозе. Иначе говоря, никто, если не считать Бисмарка, не навязывал России сверху эту никчемную войну. И если она тем не менее состоялась, означать это могло лишь одно. Рольуваровского государственного патриотизма исполнял теперь национальный эгоизм, тот самый «союз филозападов и славянофилов», по выражению Герцена, что сгубил, как мы видели, Колокол.
И шел он теперь не сверху, как при Николае, а снизу - от значительной части образованного, в том числе и западнического, общества, сделавшего, наконец, свой выбор. Я имею выбор не только между Герценом и польской свободой, как в 1863 году, но между самодержавием и конституционной монархией, между сверхдер- жавностью России и ее политической модернизацией, между, если хотите, Уваровым и Чаадаевым. «Вставание с колен» требовало жертв. И жертвой его пали не только славянофилы, но и западники, на глазах превращавшиеся в «националистов с оговорками»
И потому отныне приступы болезни, которую Герцен назвал «патриотическим сифилисом», станут в Российской империи столь же обыденными явлениями, как, скажем, вьюги зимою или весенние половодья.
Глава шестая
Плевелы торжество национального эгоизма
Как это произошло? Вот объяснение Соловьева: «плевелы, посеянные ими же [славянофилами] вместе с добрым зерном, оказались гораздо сильнее этого последнего на русской почве и грозят совсем заполонить всё поле нашего общественного сознания и жизни»107.
Преувеличивал ли Соловьев? Действительно ли успело славянофильство за три десятилетия, прошедшие после краха Официальной Народности, «заразить» значительную часть общества, включая бывших оппонентов, «плевелами» национального эгоизма? Действительно ли согласились в 1880-е вожди тогдашнего либерализма, «русские европейцы» с главными постулатами славянофилов? С тем, например, что свобода совместима с самодержавием? Или с императивностью сверхдержавного реванша («великодержавными стремлениями» на славянофильском жаргоне)? Или даже с тем, что сельская община, отрицавшая, как мы знаем, и права личности и частную собственность крестьянина, идеально подходит для России?
Довольно просто проверить утверждение Соловьева, обратившись, допустим, к сборнику статей современных авторов «Российские либералы», опубликованному в 2001 году и составленному из очень серьезных и содержательных биографий либеральных персонажей XIX века. В том числе современников Соловьева. Возьмем один, но очень характерный пример. Вот Александр Дмитриевич Градовский, блестящий юрист, автор болгарской конституции, сотрудник «диктатора сердца» Лорис-Меликова. Естественно, чистой воды западник. И тем не менее современный его биограф В.А. Твардовская так характеризует его политические идеи: «Защита неотъемлемых и естественных человеческих прав, какими Градовский считал гражданские права, не сопровождалась у него критикой существующего режима». Напротив, «идеи европейского либерализма сочетались у Градовского с уверенностью в их совместимости с самодержавием, как и с великодержавными стремлениями»108. Читатель еще не забыл, надо полагать, чьи это постулаты.