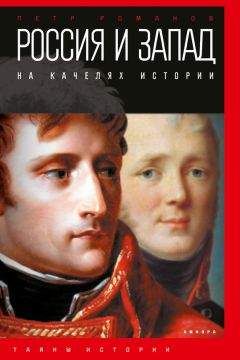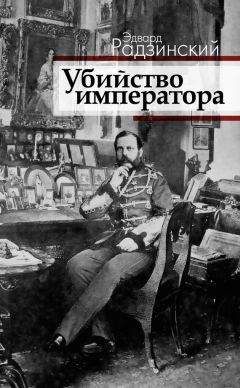I Глава седьмая
Ста В р О Г И Н I три "рор[92]^™ и Мефистофель
Одной из самых модных тем в раннесоветском литературоведении 1920-х были попытки отыскать прототип главного героя «Бесов» Николая Ставрогина. Именно этой теме посвятил, в частности, свою статью «Бакунин и Достоевский» Леонид Гроссман. Она вызвала бурную дискуссию, в которой приняли участие крупнейшие литературоведы того времени. Гроссман утверждал, что «единственный раз на протяжении целого полустолетия маска с лица Бакунина была приподнята и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции... Ставрогин - это яркий рефлектор перед лицом Бакунина»14. Копья ломались целых два года. Вопрос остался открытым.
мянутой во второй книге трилогии работы В.В. Кожинова, обнаружить мне не удалось. Зато о Данилевском, помимо подробно расмотренной там же монографии Б.П. Балуева, была еще защищена докторская диссертация К.В. Султанова (Социальная философия Н.Я. Данилевского и проблема культурно-исторических типов в современной общественной мысли. Спб., 1995). Нельзя также не упомянуть многочисленные публикации правнучки Данилевского В.Я. Данильченко, особенно её эссе «Востребован временем» (Наше наследие. Вып.1. Ливны, 1999). В момент, когда подавляющее большинство славянских государств наперегонки стремятся в Европейский союз и в НАТО, не желая и слышать о Русско-славянской федерации, напророченной её прадедом, выражение «востребован временем» выглядит, согласитесь, несколько комично (как, впрочем, и аналогичные утверждения Б.П. Балуева и всей котерии современных последователей Данилевского).
Я вспомнил об этом лишь затем, чтобы показать, что с разделяемой всеми тогдашними оппонентами точки зрения, согласно которой Бакунин и Достоевский представлялись полярными противоположностями, проблема, собственно, не имеет решения. Другое дело, если мы посмотрим на них как на своего рода коллег-мифотворцев, которые при всех их различиях были едины в главном, в том, во что оба одинаково верили и что одинаково ненавидели. В этом случае нам тотчас становится очевидным: никак не мог быть Ставрогин сатирой на Бакунина. Просто потому, что был его антиподом.
Что призван олицетворять в «Бесах» Ставрогин? Европеизированный интеллект, до такой степени очищенный от славянофильского «цельного знания», от чувства и веры, что органически неспособен уверовать во что бы то ни было - будь то шигалевский рай, женская любовь, атеистический «муравейник», материнская привязанность или православный бог. Ставрогин не бес, Ставрогин - искуситель бесов, Мефистофель бесовства, Пигмалион навыворот, презирающий свою Галатею. Он оскоплен своим гипертрофированным интеллектом, он не холоден, не горяч - он тепл. И потому не может прилепиться душой ни к чему, и потому - рене- МА- Бакунин | гат по природе. Он изменил православию, в которое вовлек неверующего Шатова, и атеизму, которым соблазнил верующего Кириллова, чем погубил обоих. Изменил Лизе с Дашей и Даше с Лизой, России с Европой и Европе с Россией. Изменил всему, чему можно на этом свете изменить, запутал всех, запутался сам - и погиб в петле, как Иуда.
Ставрогин (читай: интеллект без веры) ренегат не какого-либо движения, он - ренегат всех движений, ренегат в принципе. И все оттого, что «гордость» убила в нем «смирение», интеллект убил веру,рациональность убила «цельное знание». В этом противоположении движется, как мы видели, славянофильская мысль вообще и мысль Достоевского в частности. «Бесы» - самый головной, самый идеологический из его романов, и потому славянофильская дихотомия (вера против разума) совершенно в нем обнажена.
| Ф.М. Достоевский
Нетривиально здесь другое. То, что именно эта дихотомия вдохновляла и Бакунина. Ибо он так же, как Достоевский, ненавидел гипертрофированный интеллект. И так же веровал. Причем веровал фанатически. Не только в свою идею всеобщего разрушения как в залог сотворения нового и прекрасного мира, но и в связанную с ней идею славянского мессианизма, несущего человечеству все, «что
есть инстинктивного и творческого в мире», и в первую очередь «историческое чувство свободы». Так же, как Достоевский, противополагал он интеллекту недоступную ему, непосредственную «народную правду, свободную от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков». Бакунин никогда не изменял своей вере и своей ненависти. Уж чем-чем, а ренегатом он не был. И Достоевский знал это. Вот почему бес Петр Верховенский у него «мошенник, а не социалист».
Но если это так, то очевидно же,
что либо Достоевский не имел намерения изобразить Бакунина либо изобразил карикатурно. В обоих случаях предположение Гроссмана, что «сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца», не подтверждается. Но разве в этом суть? На самом деле Ставрогин оказывается ключом не к частной психологической проблеме, но к философскому обобщению большой объяснительной силы, несопоставимо более важному, нежели гипотеза о его прототипе. Потому что именно в нем попытался Достоевский воплотить пронизывающую всю его публицистику генеральную славянофильскую
12 Яновидею о принципиальной неспособности разума разгадать законы мира и общества, открытые лишь интуиции верующего. О том, что европейский интеллект без веры - Мефистофель истории, провоцирующий человечество на неисполнимые, безумные акции и тем самым неотвратимо влекущий его в тупик безнадежности, преступления и бесовства.
Вот почему социальная функция и само даже существование носительницы этого интеллекта - «публики» в славянофильской номенклатуре, «антинародной» интеллигенции на современном жаргоне - оказывается сомнительным, если не вредоносным. В самом деле, если не для разгадывания законов мира и общества и не для просвещения народного существует интеллигенция, то для чего она? Если законы эти открыты лишь неиспорченной ложным просвещением интуиции, лишь «живому чувству» человека с улицы, если, как убежден был Достоевский, «народ наш просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и его учение», и «христианство народа нашего есть и должно остаться навсегда самою главной и неизменной основой его просвещения», то зачем тогда интеллект и научный поиск?
Что, собственно, открывать науке, если вся информация, необходимая для праведной жизни, заранее запрограммирована в заповедных глубинах народного духа, и задача, стало быть, лишь в том, чтобы извлечь ее из этих изначальных метафизических глубин?
Ясно, что из всех наук действительно необходима разве что теология, да и то ортодоксальная, толкующая жития святых, т. е. те самые Четьи-Минеи, в которых и заключена, по Достоевскому, «народная правда». Вот откуда возникает у него интеллигенция как «чужой народик... очень маленький, очень ничтожненький». Согласитесь, что там, где в качестве кодекса и конституции идеального общественного устройства предлагаются Четьи-Минеи, интеллекту делать и впрямь нечего. Он способен лишь навредить. И потому должен быть сброшен с пьедестала, принижен, разрушен вместе с порожденным им ложным просвещением и всей подпирающей его
институциональной структурой - с ее университетами и академиями.
Но ведь это и означает на самом деле знаменитое бакунинское «Разрушение есть созидание». Перед нами вовсе не парадокс, перед нами вера. Средневековая вера, спору нет, но общая у Бакунина с Достоевским.
Вера вто, что, содрав, разрушив верхний, порочный, неистинный и «ничтожненький» слой социальной структуры, мы найдем под ним вечный и неизменный пласт «народной правды», метафизический источник добра и красоты, истинное просвещение, освобожденное от сатанинских «хитростей разума».
Первая неожиданность состоит здесь, как видим, в том, что разоблачитель русских бесов и сам верховный бес мыслят, оказывается, совершенно одинаково. Еще большая неожиданность, однако, что самый яркий интеллектуальный оппонент обоих Константин Леонтьев был в этом смысле, как мы увидим, совершенно с ними согласен. Его византизм, который «как сложная нервная система пронизывает весь великорусский общественный организм», и был тем самым неизменным подземным пластом добра и красоты, околдовавшим Достоевского и Бакунина.
Но самая большая неожиданность все-таки в том, что эти трое - революционер-анархист, национал-либерал и радикал- консерватор - несовместные во всем остальном, как гений и злодейство, одинаково оказались апологетами самодержавия.
В конце концов то, что Бакунин, Достоевский и Леонтьев друг на друга не похожи, - тривиально, общеизвестно, здесь никакой проблемы нет. Проблема в том, что у них общего. И в том, помогло ли им это общее адекватно разобраться в современной им политической реальности и предложить правильные прогнозы.