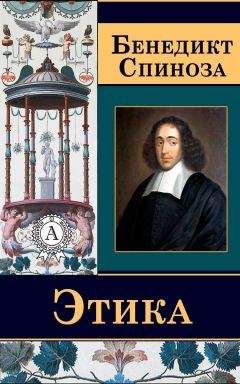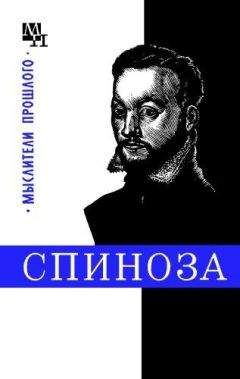определяющей воле ничего, чего не было бы в воле определяемой
или определенной; и нельзя предположить ничего иного.
Следовательно, воля не может сама себя определять к хотению, а
если это так, то она должна определяться чем-либо иным».
Таковы собственные слова профессора Хеерборда из Лейдена *.
Этим он показывает, что под волей он разумеет не самую душу, но
нечто вне или внутри души, что, как чистая доска (tabula rasa),
лишено всякого мышления и способно принять любое изображение;
или, скорее, воля есть для него нечто, подобное грузу, находящемуся
в равновесии, который всякой тяжестью увлекается в ту или другую
сторону, смотря по направлению этой тя-
__________________
* См. его «Философские упражнения» (Meletemata Philosophica),
изд. 2, Лейден 1659.
313
жести; или, наконец, он разумеет под волей то, чего ни он сам, ни
кто-либо из смертных никаким размышлением не может понять. Мы
же только что сказали и ясно показали, что воля есть не что иное, как
сама душа, называемая нами мыслящей вещью, т.е. утверждающей
или отрицающей; отсюда ясно вытекает, что, когда мы обращаем
внимание единственно на природу души, она имеет равную власть
утверждать и отрицать, а это и значит мыслить. Итак, мы из того, что
душа мыслит, заключаем, что она имеет власть утверждать и
отрицать, то зачем еще искать случайных причин для совершения
того, что следует единственно из ее природы? Но скажут, сама душа
не более определена к утверждению, чем к отрицанию, и отсюда
выведут, что мы необходимо должны искать причину, определяющую
ее. На это я возразил бы, что, если бы душа сама по себе и по своей
природе определялась только к утверждению (хотя этого нельзя себе
представить, пока мы считаем ее мыслящей вещью), тогда
единственно в силу своей природы она могла бы только утверждать,
но никогда не могла бы отрицать, сколько бы ни представлялось к
тому причин. Если же, наоборот, она не определялась ни к
утверждению, ни к отрицанию, она не могла бы делать ни того, ни
другого. Если, наконец, она, как только что показано, имеет власть
делать то и другое, то она будет в состоянии лишь по своей природе и
без всякого содействия другой причины исполнять оба действия; это
будет ясно всем, которые считают мыслящую вещь мыслящей
вещью, т.е. между атрибутом мышления и мыслящей вещью
допускают только мысленное различие и ни в коей мере не отделяют
их друг от друга, как это делают наши противники, которые лишают
мыслящую вещь всякого мышления и в своих измышлениях делают
его первичной материей перипатетиков. Поэтому вот мой ответ на
этот более значительный аргумент: если под волей мы разумеем
вещь, лишенную всякого мышления, мы признаем, что воля по своей
природе неопределима. Но мы оспариваем, чтобы воля была чем-то
лишенным всякого мышления и, напротив, утверждаем, что она есть
мышление, т.е. могущество как утверждения, так и отрицания, под
чем, очевидно, нельзя разуметь ничего другого, кроме причины
достаточной для того и другого. Далее, мы отрицаем, что, если бы
воля была неопределима, т.е. лишена всякого мышления, какая-либо
слу-
314
чайная причина, отличная от бога и его бесконечной мощи творить,
могла бы ее определить. Ибо представить мыслящую вещь без
мышления есть то же, что представить протяженную вещь без
протяжения.
Почему философы смешали душу с телесными вещами.
Наконец, чтобы не перечислять здесь множество других аргументов,
я напомню лишь, что наши противники, не поняв воли и не имея
ясного и точного понятия о разуме, смешали разум с телесными
вещами, это произошло оттого, что слова, обыкновенно
употребляемые для обозначения телесных вещей, они перенесли на
духовные вещи, которых они не понимали. Они привыкли называть
тела, толкаемые внешними равными и прямо противоположными
силами в противные стороны и потому находящиеся в равновесии,
неопределимыми. Считая волю неопределимой, они, невидимому,
представляли ее как тело, находящееся в равновесии; а так как эти
тела имеют в себе лишь то, что они получили от внешних причин
(откуда следует, что они всегда должны определяться внешней
причиной), то они думали, что то же имеет место и для воли. Но мы
уже достаточно объяснили, как обстоит дело, почему мы здесь и
заканчиваем.
Что же касается протяженной субстанции, то выше мы уже
достаточно поговорили о ней, а кроме этих двух мы не знаем никаких
других. Что же касается реальных акциденций и других качеств, то
они достаточно устранены, и было бы бесполезным тратить время на
их опровержение. Поэтому здесь мы откладываем перо.
ТРАКТАТ
ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
РАЗУМА
и о пути, которым
лучше всего направляться
к истинному
познанию вещей
ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО
Я.М. Боровского
TRACTATUS
DE INTELLECTUS
EMENDATIONE,
ET DE VIA,
QUA ОРТIMЕ
IN VERAM RERUM
COGNITIONEM
DIRIGITUR
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Трактат об усовершенствовании разума», который мы, любезный
читатель, предлагаем тебе в его неоконченном виде, был написан
автором уже несколько лет тому назад. Автор всегда имел намерение
окончить его, но его задержали другие дела, и, наконец, он умер, так
что не успел довести свой труд до желанного конца. Заметив, что он
содержит много хороших и полезных идей, которые, несомненно,
могут в той или иной степени пригодиться каждому, кто искренне
стремится к истине, мы не хотели лишить тебя его. Поскольку же в
нем содержится много темных мест, здесь неотработанных и
неотглаженных, мы пожелали предупредить о них тебя, с каковой
целью и составили настоящее предуведомление. Прощай 1.
ТРАКТАТ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗУМА
И О ПУТИ, КОТОРЫМ ЛУЧШЕ ВСЕГО
НАПРАВЛЯТЬСЯ К ИСТИННОМУ ПОЗНАНИЮ ВЕЩЕЙ
После того как опыт научил меня, что все встречающееся обычно
в повседневной жизни суетно и пусто, и я увидел, что все, чего я
опасался, содержит в себе добро и зло лишь постольку, поскольку
этим тревожится дух (animus) 2, я решил, наконец, исследовать, дано
ли что-нибудь, что было бы истинным благом, — и доступным и
таким, которое одно, когда отброшено все остальное, определяло бы
дух; более того, дано ли что-нибудь такое, что, найдя и приобретя
это, я вечно наслаждался бы постоянной и высшей радостью.
Наконец, решил, говорю я: ибо на первый взгляд казалось
неразумным ради пока еще недостоверного упускать достоверное. Я
видел блага, которые приобретаются славой и богатством, и видел,
что буду вынужден воздерживаться от их соискания, если захочу
усердно устремиться к другой, новой цели; и понимал, что если в них
заключено высшее счастье, то я должен буду его лишиться; если же
оно заключено не в них, а я устремлюсь только к ним, то и тогда буду
лишен высшего счастья.
И вот я размышлял, не окажется ли возможным достигнуть новой
цели или хотя бы уверенности в ней, не изменяя порядка и общего
строя моей жизни; и часто делал к тому попытки, но тщетно. В самом
деле, ведь то, что обычно встречается в жизни и что у людей,
насколько можно судить по их поступкам, считается за высшее благо,
сводится к следующим трем: богатству, славе и любострастию. Они
настолько увлекают дух, что он совсем не может мыслить о каком-
либо другом благе.
320
Ибо что касается любострастия, то оно настолько связывает дух,
как будто он уже успокоился на некотором благе, что весьма
препятствует ему думать о другом; между тем за вкушением этого
следует величайшая печаль (неудовольствие) 3, которая хотя и не
связывает духа, но смущает и притупляет его.
Преследуя славу и богатство, дух также немало рассеивается,
особенно если он ищет последнего ради него самого *, ибо тогда оно
предполагается высшим благом; славою же дух рассеивается еще
гораздо больше, ибо она всегда предполагается благом сама по себе и
как бы последней целью, к которой все направлено. Кроме того, здесь
нет раскаяния, как при любострастии; но чем более мы имеем
богатства и славы, тем больше возрастает радость (удовольствие) 4, и
поэтому мы все больше и больше устремляемся к их увеличению;
если же где-либо надежда нас обманет, тогда возникает величайшая
печаль.
Наконец, слава является большой помехой и потому, что для ее
достижения мы должны по необходимости направить жизнь
сообразно пониманию людей, избегая того, чего обычно избегают, и