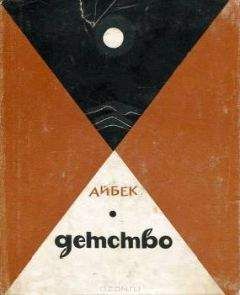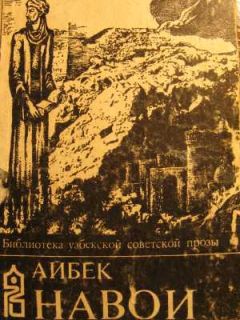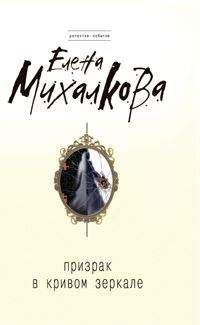Дед умолкает, улыбается:
— Все, малыш!
Я опять прошу:
— Хорошая песня, дедушка, спойте еще.
— Все! — говорит дед, — Ничего не осталось в памяти, все перезабыл. — Потом опять задумывается, а минуту спустя продолжает: — Однажды бежит Лиса, добычу вынюхивает, а навстречу ей Павлин, хвост распустил. Лиса и говорит: «О, Павлин! Слыхала я, ты пляшешь чудо как хорошо. Спляши же, порадуй меня». Павлин еще пуще распустил хвост и пошел плясать. А Лиса смотрела, смотрела, облизывалась — проголодалась очень, — да как схватит его. Павлин видит, Лиса недоброе задумала и говорит: «О, Лиса! Что ты делаешь?» А Лиса ему: «Я, говорит, проголодалась очень, хочу тебя съесть!» Павлин говорит: «Ладно, ешь, только прежде ты должна молитву прочесть». Лиса забормотала что-то про себя, подняла передние лапы и только успела сказать: «Омин велик аллах!», как Павлин — «Фрр!» и улетел от Лисы, из-под самого носа… Все, конец! Старость, сгинуть ей, добра от нее мало. Сил нет, все время ко сну клонит… — Помолчав минуту, дед качает головой: — А все же немало мною порыскано по свету. По степям, по пустыням на верблюдах немало поезжено…
— Дедушка, расскажите еще! — прошу я, поглаживая деду бороду.
— Хватит, сынок. Если придет что на память, завтра-послезавтра расскажу, — говорит дед, лаская меня сухой морщинистой рукой.
Я обнимаю его колени, заглядываю в мудрые, задумчивые глаза. Соглашаюсь:
— Ладно, дедушка, завтра.
Дед тихонько опускает отяжелевшие веки и погружается в долгую думу.
* * *
Приходит весна. Урюковые деревья, персики, вишни, сливы, доверившись теплу, одно за другим торжественно облачаются в легкие светлые одежды. Чарующая прелесть цветов, нежная зелень листьев вызывают чувство восторга, душевного подъема.
., Местом наших игр теперь становятся крыши. А помощником и соучастником наших ребячьих забав — весенний ветер. Все ребята увлекаются бумажными змеями. Мечтой, заветным желанием каждого становится «курок». Курок — это большущий змей, сделанный из плотной разноцветной бумаги. Бывали куроки, которые могли нести под собой зажженный фонарь. Мне самому доводилось видеть такие. Лучшими мастерами по курокам были Махкам и Мумин. Темной ночью их змеи гудели на ветру с мерцающими, как звезды, фонарями.
Я тоже не отстаю от товарищей, мастерю маленького змея. Долго вожусь с ним, но в конце концов запускаю, пробежав от одного края крыши до другого.
Погода стоит мягкая. Дует ласковый весенний ветерок. Величаво плывет в небе солнце… Крыши, особенно старые, глиняная заливка которых не была обновлена прошлой осенью, поросли нежной травкой. А в траве огнем горят алые маки…
Внизу вдоль узкой улочки, поблескивая на солнце, тянутся длинные полосы шелковой основы. Когда-то ткачи нашего квартала выпускали бязь. Многие из них вынуждены были бросить свое дело, а некоторые начали переходить к тканью местного шелка. Тут же, прислонившись к дувалу, сидит мой дед. Всякий раз, когда на улице натягивали основу, он любил сидеть вот так на солнышке и беседовать с ткачами.
Когда змей наскучил мне, я спрыгнул прямо на улицу. Дед вздрогнул:
— Проказник, с крыши сиганул, а!
Я со смехом притискиваюсь к нему под бок. Дед успокаивается, обнимая меня одной рукой, продолжает беседовать с ткачами.
— Эрмат, свет мой, ученик твой ушел, что ли, от тебя? Смирный, покладистый парнишка был.
Высокий, лет пятидесяти безбородый ткач говорит сдержанно, продолжая заниматься своим делом:
— Да, ушел. В Фергану уехал. Вот прибавилось фабричного товара, и в нашем деле наступил застой. Ткачей шелка и тех совсем мало осталось: там один, тут один… Скоро и мне, наверное, придется свернуть дело. Расходов и тех не оправдываешь.
Дед кивает головой:
— Ты прав. Раньше все люди носили простую бязь.
Девушки, женщины и те в бязь одевались. А появился ситец, и дела ткачей пошли на убыль. Фабриканты утопают в деньгах. Выходят все новые и новые товары — бархат, плис, сукна, шелка и всякие прочие штуки. Да, здорово переменились времена. Но, сын мой, худые это времена. Злодеяниям и притеснениям нет предела. Правде, справедливости пришел конец. Нам только и осталось уповать на аллаха, друг мой!
— Верно, отец! Справедливые слова. Бедняки, неимущие в обиде, а сытые кутят, распутничают.
Дед легонько трогает бороду, говорит ткачу:
— Запасись терпением, сын мой, и достигнешь своих желаний. Но мой совет тебе такой — бросай ткачество. Занятий всяких много, берись за какое-нибудь подходящее по времени. Даст бог и придет к тебе удача.
Я тяну деда за руку:
— Идемте, дедушка, на гузар сходим!
— Ах, сорванец! Ну, идем, идем, — говорит дед, с трудом поднимаясь на ноги.
Взявшись за руки, мы отправляемся на перекресток, к лавкам.
* * *
Деду нездоровилось. Уже будучи больным, он некоторое время еще держался кое-как, а потом слег окончательно. Теперь он уже не сходит с постели на террасе. Лишь иногда приподнимется через силу и посидит на солнышке, сунув за спину подушку.
— Хорошо бы Таш приехал. Сил нет, ко сну клонит, это знак близкой смерти, похоже сочтены дни мои, — часто говорил он бабушке.
Приехал отец. Он, хоть в душе и был опечален, старался утешить деда, когда тот начинал жаловаться на недомогание.
— Не бойтесь, — говорил он, — вы хорошо выглядите, отец, и еще поживете.
А тетка с Лабзака чуть не каждый день приводила всех своих ребятишек и плакала, не переставая. Так что деду самому приходилось утешать ее..
— Перестань, не плачь, доченька, — говорил он. — Смерть — это наследие наших отцов…
Хорошо помню, как он дрожащими руками брал иногда дочку тетки и мою сестренку Шарофат (они были еще младенцами). Подержит, пожелает им:
— Пусть долго живут и здравствуют! Боже, пусть здравствуют и живут они до тысячи лет! — расцелует и вернет детишек матерям.
Я часто подсаживался к нему, ласкался, трогал бороду, гладил щеки. А он легонько похлопает меня по спине и скажет:
— Иди играй, мой мальчик. Что тебе сидеть? Беги к своим товарищам.
Дед умер, когда я был на улице. С нашего двора донеслись громкий плач, причитания. Прибежал я, а отец, бабушка, (мать, тетка уже сидят у изголовья дедушки и плачут. Отец, вытирая платком слезы, повернулся ко мне:
— Беги в школу, позови сестренку свою Каромат. — И сам поспешил зачем-то на улицу.
Около деда собираются дядя, бабушка Таджи и другие близкие родственники. Я спохватываюсь, бегу к дому учительницы. Через ворота вбегаю на просторный двор, подхожу к сестренке. Шепчу:
— Умер… дедушка… Идем скорее!
Каромат побледнела, застыла на мгновенье и вдруг громко зарыдала. Учительница сразу догадалась, в чем дело. Она шепотом прочитала молитву, провела руками по лицу, потом тихонько сказала что-то сестренке. Каромат дрожащими руками торопливо сунула книги в сумку, и мы молча побежали домой.
Во дворе у нас уже собрались жители квартала, соседи, знакомые, родственники. В полдень дедушку понесли на кладбище. Я был мал, но все хорошо помню. Мы долго шли через Беш-агач к Бурджару. В камзоле, подпоясанный новым поясным платком, в старенькой тюбетейке, босой, я семенил в толпе, запинаясь на каждом шагу и проливая слезы. Было жарко, душно. От жары у меня пересохло во рту. На Беш-агаче я напился из большого канала, черпая горстью мутную воду. На кладбище, когда дедушку стали засыпать землей, я заглянул в могилу. Как страшно! Дядя сердито оттолкнул меня в сторону. Тут какой-то старенький человек начал громко читать коран. Все притихли. «Бедный дедушка! Как же он останется в этой глубокой, темной могиле? А если сейчас явятся Мункар, Накир!» — внезапно мелькнула у меня мысль, и меня бросило в дрожь. Огромное, в глубоком безмолвии кладбище вдруг показалось мне каким-то иным, нездешним миром. Страшно! Как страшно!..
Мать, тетка, сестренка Каромат встретили нас громким плачем. Бабушка сидела молчаливая и печальная. Время от времени по ее морщинистым щекам скатывались одна-две слезинки.
Вечером, еще до наступления темноты, бабушка зажгла в углу комнаты свечу. По очереди читают коран. Я один дольше всех задерживаюсь в пустом доме. Шепотом читаю по памяти какой-то — не помню уже — стих корана, которому меня научил дедушка. Читаю со слезами, с чувством, от всей души. Сердце мое, кажется, обливается кровью, и я вдруг громко рыдаю. Потом долго сижу молча. Вспоминаю каждое дедушкино слово. На душе у меня так же пусто и темно, как в этой пустой и темной комнате.
В дверь тихонько входит мать.
— Что ты сидишь тут один в темноте? — с дрожью в голосе говорит она. — Это может худо кончиться. Идем!
Она берет меня за руку и уводит на террасу.
Я рано вскочил с постели, быстро оделся.
На дворе осень. Каждое дерево — факел. Как стекло, прозрачна вода в арыке. В воздухе легкая дымка, чуть приметная. Цветут розы, вьюнки, всяких сортов портулаки — им нипочем первые осенние заморозки.