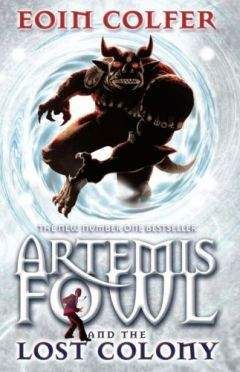«В связи со значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ. Пастернак».
Представители Шведской академии ответили, что «получили отказ с глубоким сожалением, сочувствием и уважением». До того от Нобелевской премии отказывались всего три раза[622]: трое немецких ученых отказались от премии по приказу Гитлера. Немецкий диктатор был взбешен, когда премией мира в 1935 году наградили Карла фон Осецкого, сидевшего в концлагере; Гитлер издал указ, запрещавший немцам принимать Нобелевскую премию. Пастернак послал вторую телеграмму в ЦК, где сообщал о своем решении, и просил вернуть работу Ивинской, которую уволили из издательства.
Одному западному репортеру Пастернак говорил: «Я принял решение в одиночку[623]. Я ни с кем не советовался. Даже лучшим друзьям не сказал».
Начало сказываться напряжение. Сын Пастернака Евгений был потрясен, когда позже в тот день увидел отца. Пастернак показался ему «серым и взъерошенным». «Мой отец был неузнаваем»[624].
Ивинская встретилась с Поликарповым, и тот сказал, что ей нужно быть рядом с Пастернаком и «не допускать нелепых мыслей»[625]. (Кроме того, ЦК прислал медсестру на дачу Пастернака, чтобы та следила за ним; сестре сказали, что ее услуги не нужны, но она отказалась уезжать; в конце концов ее устроили на раскладушке в гостиной.)
«Весь этот скандал должен быть улажен, и мы его уладим с вашей помощью, — сказал Поликарпов Ивинской. — Вы можете помочь ему повернуться к своему народу. Если только с ним что-нибудь случится… ответственность падет на вас».
Решение отказаться от Нобелевской премии, однако, не дало отсрочки. Более того, отказ расценили как акт озлобленности со стороны человека, от которого ожидали капитуляции, который не должен был пытаться управлять событиями. «Это еще более грязная провокация[626], — сказал Смирнов, отказываясь от поддержки Пастернака. Отказ от премии он назвал «еще большим предательством».
Глава 12. «Имя Пастернака означает войну»
Вечером перед тем, как Пастернак послал в Стокгольм телеграмму об отказе от премии, на встречу с Хрущевым в Кремль вызвали Семичастного, секретаря ЦК ВЛКСМ. Советский лидер принял его в кабинете вместе с секретарем ЦК Михаилом Сусловым, главным идеологом партии.
Разговор зашел о докладе, который Семичастному предстояло сделать на следующий день на пленуме ЦК ВЛКСМ. Хрущев посоветовал включить в него раздел о Пастернаке. Семичастный ответил: история с Нобелевской премией не вписывается в доклад, посвященный сорокалетию комсомола.
«Мы найдем для него подходящее место»[627], — ответил Хрущев и вызвал стенографистку. Затем он продиктовал несколько страниц, уснащая свою речь оскорблениями. Он обещал Семичастному, что будет аплодировать, когда тот дойдет до абзаца о Пастернаке. «Все поймут», — сказал Хрущев.
На следующий вечер, 29 октября, Семичастный выступал перед двенадцатитысячной аудиторией[628]. Его доклад транслировался по телевидению и радио.
«…как говорится в русской пословице[629], и в хорошем стаде заводится паршивая овца, — говорил Семичастный. Хрущев, сидевший в зале, широко улыбался. — Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым «произведением»… И этот человек жил в нашей среде и был лучше обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек плюнул в лицо народу. Как это можно назвать?.. Иногда мы, кстати совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал… Пастернак — этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества — он это сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит».
Семичастного неоднократно перебивали аплодисментами. Затем он перешел к тому, чего Пастернак боялся больше всего:
«А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался? Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это… Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких бы препятствий ему не чинило, а наоборот, считало бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух». На следующее утро Пастернак прочел высказывания Семичастного в газете. Он заговорил с женой о возможности эмиграции. Зинаида ответила: чтобы жить в мире, он может уехать. Пастернак удивился и спросил: «С тобой и Леней?» — имея в виду сына.
«Ни в коем случае[630], — ответила Зинаида, — я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы жизни ты провел в покое и почете. Нам с Леней придется отречься от тебя, ты понимаешь, конечно, что это будет только официально».
«Если вы отказываетесь ехать со мной за границу, я ни в коем случае не уеду», — ответил Пастернак.
Говорил он и с Ивинской; он даже обратился в ЦК с просьбой разрешить Ивинской и ее детям эмигрировать вместе с ним, но потом порвал письмо. Пастернак понимал, что всецело связан с Россией; в то же время он снова столкнулся с невозможностью выбора между двумя своими семьями. «Пусть будут родные будни[631], родные березы, привычные неприятности и даже — привычные гонения».
Ивинская боялась, что Пастернаку не оставят выбора. И она продолжала стремиться к какому-то компромиссу. Она поехала к Григорию Хесину, возглавлявшему отдел авторских прав в Союзе писателей. Раньше он всегда относился к Ивинской хорошо и давно объявил, что восхищается Пастернаком. Однако его доброжелательность исчезла, и гостью он встретил холодно.
«Что же нам делать?[632] — спросила Ивинская. — …это ужасное выступление Семичастного; что же нам делать?»
«Ольга Всеволодовна, — ответил Хесин, — теперь советовать вам мы уже больше не сможем… Некоторые вещи ради своей родины нельзя прощать. Нет, советовать тут я вам ничего не могу».
Ивинская вышла, хлопнув дверью, и к ней подошел молодой адвокат, специалист по авторским правам, Исидор Грингольц. Он сказал, что готов помочь. Грингольц называл себя поклонником Пастернака: «Для меня Борис Леонидович святой!» Ивинская, отчаянно жаждавшая помощи, не усомнилась в его сентиментальной заботливости. Они договорились встретиться через два часа на квартире матери Ивинской. Придя туда, Грингольц предложил, чтобы Пастернак написал напрямую Хрущеву, чтобы его не выслали из страны. Он даже предложил помочь составить текст письма.
Ивинская позвала на помощь свою дочь Ирину и нескольких близких друзей Пастернака, и они стали обсуждать проект письма. Травля Пастернака приобретала все более зловещие очертания; Пастернак получал письма с угрозами; ходили слухи о возможном разгроме дачи в Переделкине[633]. Как-то ночью местные хулиганы[634] швыряли камни в дачу и выкрикивали антисемитские оскорбления. После речи Семичастного[635] боялись выходок у дома Пастернака. В Переделкино даже вызвали наряды милиции.
Хесин также сообщил Ивинской: если Пастернак не раскается, его вышлют из страны.
«Надо отступать, и мне ясно показалось — иначе нельзя», — писала Ивинская. Она была против предложения дочери Ирины, которая считала, что Пастернак не должен каяться. Позицию Ивинской поддерживала без конца курившая Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Эфрон в то время только что вернулась в Москву после 16 лет в лагерях и ссылке; она не думала, что с помощью письма можно многого достичь, но считала, что оно не повредит[636].
Они вместе переписали письмо, составленное Грингольцем, стараясь выдержать стиль Пастернака. Ирина и Кома Иванов отвезли черновик Пастернаку в Переделкино. Он встретил их у калитки. «Как вы думаете, с кем меня вышлют[637]? — спросил он. — Я думаю: в русской истории те, кто жил в ссылке, значили для страны гораздо больше: Герцен, Ленин».
Они втроем пошли на переделкинскую почту, где Пастернак долго беседовал с Ивинской по телефону. Он согласился прочитать письмо и внес только одно исправление — добавил, что он связан рождением с Россией, а не с Советским Союзом. Он подписал еще несколько чистых бланков на тот случай, если друзьям придется еще что-нибудь исправить. Его желание сопротивляться ослабевало.