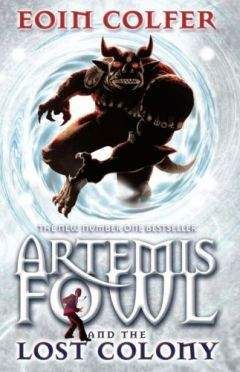«Пастернак будет похоронен[843] в лучшем месте на кладбище», — похвастал функционер.
Представители Литфонда посетили семью после смерти Пастернака и обещали оплатить похороны и помочь с перевозкой. КГБ разместил в местном бюро[844] временную штаб-квартиру; агентам велели смешаться с толпой[845] и записывать, кто присутствует. Членам Московского отделения Союза писателей «не рекомендовали» приезжать на похороны; в дни перед похоронами некоторые писатели украдкой проникали на дачу Пастернака черным ходом, чтобы засвидетельствовать свое уважение и не быть замеченными вездесущими осведомителями.
Лишь несколько писателей рискнули навлечь на себя гнев властей, придя на похороны. Когда драматурга Александра Штейна спросили, почему он не идет на похороны, он ответил: «Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях»[846].
В доме соседа Пастернака Константина Федина, сменившего Суркова на посту секретаря Союза писателей, были задернуты шторы. Федин сказался больным, но его отсутствие восприняли как оскорбление. Двое присутствовавших на похоронах схлестнулись над гробом Пастернака из-за неявки Федина. Один оправдывал Федина, утверждая, что он на самом деле тяжело болен и ничего не знает. Второй сердито парировал: «Он прекрасно видит из окон, что здесь происходит».
Вениамин Каверин был так возмущен, что позже написал Федину: «Кто не помнит, например[847], бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране истории с романом Пастернака. Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение двадцати трех лет жил рядом с тобой. Может быть, из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?»
Сад быстро заполнился народом. Западные корреспонденты стояли на ящиках у калитки; некоторые залезали на деревья, чтобы лучше видеть. Гости молча ждали, когда их пустят в дом через боковую дверь, и гуськом проходили мимо тела, а затем выходили через парадную дверь. Пастернака одели в темно-серый костюм его отца и белую рубашку. «Он как будто лежал в поле[848], а не в своей гостиной, потому что гроб утопал в полевых цветах, вишневом и яблоневом цвете, в красных тюльпанах и ветках сирени». Цветов становилось все больше и больше — приехавшие тоже оставляли букеты. В головах гроба стояли женщины в черном; среди них были Зинаида и Евгения, первая жена Пастернака.
Присцилла Джонсон была потрясена, когда увидела тело, «так как лицо утратило всю свою прямоугольность и силу». Вениамину Каверину показалось, что знакомое лицо Пастернака было теперь «вырезано в белой неподвижности», и он различил то, что, по его мнению, было «едва заметной улыбкой в левом углу рта». Тело забальзамировали 31 мая, после того как художник Юрий Васильев снял посмертную маску. 1 июня местный священник отслужил заупокойную службу на даче для родственников и немногих близких друзей.
Когда Джонсон спросила невестку Пастернака, состоится ли перед похоронами служба в местной православной церкви Преображения XV века, та оглядела американку с ног до головы и сказала: «Вы очень наивны».
Ивинская прошла мимо тела, не в силах задержаться из-за потока людей, шедших за ней. «Внутри люди еще прощались с моим любимым, который лежал совершенно бесстрастно, равнодушный ко всем ним, а я сидела у двери, так долго запретной для меня». К ней подошел Константин Паустовский, 80-летний патриарх советской литературы. Ивинская расплакалась, когда он нагнулся к ней. Наверное, Паустовский решил, что она не может войти в дом из-за сложных отношений с семьей Пастернака.
«Я хочу пройти мимо его гроба с вами»[849], — сказал он, беря Ивинскую под локоть.
Паустовский заметил, что «похороны — естественное событие, выражение того, что люди чувствуют на самом деле». Ему невольно вспомнились похороны Пушкина и поведение царедворцев, их убогое ханжество, их мнимая гордость.
Агенты КГБ сновали в толпе, подслушивали, делали снимки. Многие безошибочно отличали их, «единственный чужеродный элемент[850] в толпе, который, несмотря на все свое разнообразие, сплачивало единое чувство».
«Сколько же здесь всего народу? — поинтересовался старый друг Пастернака Александр Гладков. — Две, три, четыре тысячи? Трудно сказать, но ясно, что пришло несколько тысяч». Западные корреспонденты более консервативно склонялись к цифре в тысячу человек. Представители власти насчитали около пятисот человек[851]. Но даже такая цифра была примечательной. Гладков беспокоился, что похороны окажутся «малолюдными и жалкими».
«Кто бы мог ожидать столько народу, когда из тех, кто должен был явиться только для проформы, по воле долга, не пришли, как то часто бывает, — писал Гладков. — Для всех присутствующих тот день был днем громадной важности — и это само по себе превратилось в очередную победу Пастернака».
Люди встречались со старыми друзьями в палисаднике — товарищи, в некоторых случаях вернувшиеся из лагерей. Гладков встретил двух бывших сокамерников, с которыми он не виделся много лет. Казалось совершенно естественным встретиться снова в такой миг, и Гладков вспомнил строки[852] Пастернака из стихотворения «Душа»:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
С тыльной стороны дачи люди сидели на траве и слушали, как лучшие пианисты России играют на старом рояле; печальные звуки лились из открытого окна комнаты на первом этаже. Станислав Нейгауз, Андрей Волконский, Мария Юдина и Святослав Рихтер играли по очереди, исполняя медленные и торжественные траурные мелодии и некоторые мелодии из тех, что любил Пастернак, особенно Шопена.
В начале пятого Рихтер закончил исполнением «Похоронного марша» Шопена. Родственники попросили тех, кто еще оставался в доме, перейти в палисадник, чтобы они могли в последний раз побыть наедине с покойным. Ивинская, стоявшая на крыльце, силилась заглянуть внутрь; однажды она встала на скамейку и заглянула в окно. Одна очевидица вспоминала, что «в ее униженном положении[853] она выглядела замечательно красивой».
Спустя короткое время Зинаида Николаевна в черном, с крашенными хной волосами, вышла на парадное крыльцо. Процессия двинулась на кладбище.
Горы цветов, лежавшие вокруг гроба, передавали в толпу через открытые окна. Организаторы из Литфонда подогнали синий микроавтобус. Гроб собирались быстро предать земле[854]. Носильщики, в том числе оба сына Пастернака, отказались ставить гроб в автобус. Открытый гроб несли на плечах, и толпа расступалась, когда они проходили по саду, по улице Павленко и по «унылой грязной дороге»[855], которая «горько взбивала пыль». Толпа двинулась на кладбище.
Крышку гроба несли молодые писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль, ученики Пастернака. По русской традиции, крышку не прибивали до самого последнего мига — до погребения. Носильщики, идущие во главе толпы, шли так быстро, что тело как будто парило в океане людей. Молодые люди выходили из толпы, сменяя уставших носильщиков. Некоторые из распорядителей, срезая путь, шли по свежевспаханному полю перед дачей Пастернака. Кладбище находилось за полем, на холмике, рядом с яркими куполами местной церкви. Кладбище уже было переполнено, когда прибыла процессия с гробом. Подойдя к краю могилы, носильщики подняли гроб высоко над толпой — всего на миг, а затем поставили его на землю.
«В последний раз я видел удлиненное и величественное лицо Бориса Леонидовича Пастернака», — вспоминал Гладков.
Вперед вышел философ Валентин Асмус, профессор МГУ и старый друг Пастернака. Какой-то юноша наклонился к Присцилле Джонсон и объяснил, кто это. «Беспартийный», — добавил он.
«Мы пришли проститься[856] с одним из величайших российских писателей и поэтов, с человеком, наделенным всеми талантами, даже музыкальным. Можно соглашаться с его взглядами или отвергать их, но, пока русская поэзия играет какую-то роль на этой земле, Борис Леонидович Пастернак будет среди величайших.
Его несогласие с нашей современностью не имело отношения к режиму или государству. Он хотел общества высшего порядка. Он никогда не верил в сопротивление злу насилием, и это была его ошибка.
Я никогда не говорил с человеком, который так много и беспощадно требовал от себя. Лишь немногие способны сравниться с ним в честности его убеждений. Он был демократом в истинном смысле слова, человеком, который умел критиковать друзей-писателей. Он навсегда останется образцом, тем, кто защищал свои убеждения от современников, будучи твердо убежден, что он прав. Он обладал способностью выражать человечность в ее высших формах.