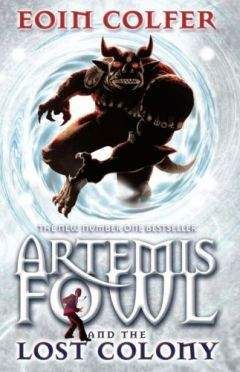Пастернак оставался непреклонен: возлюбленной нельзя к нему. Ивинская, рыдая, стояла у дачной калитки, и к ней выходил брат Пастернака. Зинаида считала «чудовищным»[826], что Пастернак не желает ее видеть. Может быть, ее муж разлюбил Ивинскую и их отношения прекратились? Записки Пастернака к Ивинской, однако, предполагают обратное. Он просто не мог вынести напряжения и высокого градуса визита Ивинской. Он не хотел, чтобы возлюбленная видела его в таком плачевном состоянии, и не желал лишнего горя семье. Он был слишком порядочен, и его жизни с двумя женщинами, казалось ему, не должны пересекаться. И дело было не в том, кого он любил, а в том, как он хотел умереть. Вот почему Ивинская стояла у дачной калитки, а Зинаида ухаживала за его умирающим телом.
В конце мая в Переделкино привезли переносной рентгеновский аппарат; рентген выявил рак легких с метастазами в другие органы. Надежды на выздоровление не было. Пастернак хотел увидеться с сестрой Лидией. Александр послал в Англию телеграмму: «ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗНАДЕЖНО[827] ПРИЕЗЖАЙ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Несмотря на просьбы, направленные лично Хрущеву, Лидия целую неделю провела в Лондоне, ожидая, пока советские власти дадут ей визу; к тому времени, как приняли положительное решение, было уже поздно.
27 мая у Пастернака упал пульс. Его реанимировали. Открыв глаза, он сказал, что ему было хорошо, а теперь ему вернули беспокойство. Он по-прежнему чувствовал себя плохо, когда позже в тот же день говорил с сыном Евгением.
«Как все неестественно[828]. Этой ночью мне вдруг стало совсем хорошо, — а оказалось, что это — плохо и опасно. Спешными уколами меня стали выводить из этого состояния и вывели. А теперь, вот пять минут тому назад, я сам стал звать врача, а оказалось — чепуха, газы. И вообще я чувствую себя кругом в дерьме. Говорят, что надо есть, чтобы действовал желудок. А это мучительно. И так же в литературе: признание, которое вовсе не признание, а неизвестность. Казалось бы, засыпало раз, и уже окончательно, хватит. Нет воспоминаний. Все по-разному испорченные отношения с людьми. Все отрывочно — нет цельных воспоминаний. Кругом в дерьме. И не только у нас, но повсюду, во всем мире. Вся жизнь была только единоборством с царствующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь».
К вечеру 30 мая врачам стало ясно, что смерть неминуема. Зинаида Николаевна вошла к Пастернаку.
«Я очень любил жизнь и тебя[829], — сказал он, и его голос ненадолго окреп. — Но расстаюсь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости не только у нас, но и во всем мире. С этим я все равно не примирюсь».
Около 11 вечера к нему вошли сыновья. «Боренька, скоро приедет Лида[830], она уже в пути, — сказал отцу Евгений. — Подожди немного!»
«Лида — это хорошо», — ответил Пастернак.
Он попросил всех, кроме сыновей, выйти. Сыновьям он велел держаться подальше от части его наследства, которая находилась за границей, — роман, деньги и все сопутствующие осложнения. Он сказал, что с этим разберется Лидия.
Ему становилось все труднее и труднее дышать. Сестры принесли кислородную палатку. Он прошептал Марфе Кузьминичне: «Не забудьте завтра открыть окно»[831].
30 мая в 23:20 Пастернак скончался.
Зинаида и экономка обмыли и одели его. Родственники почти всю ночь не спали.
В 6 утра на дороге, ведущей к даче Пастернака, Ивинская увидела, как возвращается со смены Марфа Кузьминична с поникшей головой. Ивинская поняла, что Пастернак умер, и, рыдая, бросилась на «Большую дачу»:
«Теперь вы можете меня пустить[832], теперь вам меня бояться нечего».
Никто ее не остановил. Она подошла к телу. «Боря лежал еще теплый[833], руки у него были мягкие, и лежал он в маленькой комнате, в утреннем свете. Тени лежали на полу, и лицо его было еще живое, и совсем не похожее на то застывшее и скульптурное, которое потом все видели…» Она вспомнила его голос, как он читал «Август» из «Живаговского цикла»:
Прощай, лазурь Преображенская[834]
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
Весть быстро распространилась по поселку. Лидия Чуковская пошла к отцу; у него задрожали руки[835]. Он плакал без слез. «Стоит прелестная, невероятная погода[836] — жаркая, ровная, — яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен. Я целые дни на балконе: каждый час — чудо, каждый час что-нибудь новое, и он, певец всех этих облаков, деревьев, тропинок (даже в его «Рождестве» изображено Переделкино), — он лежит сейчас — на дрянной раскладушке, глухой и слепой, обокраденный — и мы никогда не услышим его порывистого, взрывчатого баса».
В советской прессе царило молчание, хотя во всем мире о смерти Пастернака писали на первых полосах. Премьер-министры, королевы и обычные люди присылали свои соболезнования. Фельтринелли в Милане сказал: «Смерть Пастернака[837] — такой же тяжелый удар, как потеря лучшего друга. Он был воплощением моих нонконформистских идеалов в сочетании с мудростью и глубокой культурой».
И лишь 1 июня внизу последней страницы заштатного издания «Литература и жизнь» появилась маленькая заметка[838]: «Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного». В газете ни слова не было о времени и месте похорон. Как правило, некрологи, посвященные видным писателям, появлялись во всех ведущих ежедневных изданиях. В «Литгазете» печатали телеграммы, подписанные собратьями-писателями. Пастернак по-прежнему оставался парией, достойным лишь одного предложения, а в служебной записке ЦК «для внутреннего пользования» утверждалось, что такое оскорбление «приветствовали представители художественной интеллигенции». 2 июня «Литературная газета» поместила заметку, перепечатанную из «Литературы и жизни», также внизу последней полосы. Но на той же полосе поместили большую статью о чешском поэте Витезславе Незвале под заголовком «Волшебник поэзии»[839]. Часть читателей усмотрели в таком соседстве не простое совпадение, но поразительную смелость неизвестного редактора.
Были и другие извещения о смерти Пастернака — их писали от руки и приклеивали к стене у билетной кассы Киевского вокзала, откуда пригородные поезда отправлялись в Переделкино. «В ночь с 30 на 31 мая 1960 г. скончался один из Великих поэтов современности Борис Леонидович Пастернак. Гражданская панихида состоится сегодня[840] в 15 час. ст. Переделкино». Такие же объявления появлялись в разных местах города. Милиционеры срывали их, но на их месте вскоре появлялись другие.
День похорон был еще одним в череде жарких дней, день с «невыносимо синим небом»[841]. Яблони и сирень в саду Пастернака были покрыты розовыми, белыми и лиловыми цветами; под ногами лежал ковер цветов вперемешку со свежесрезанными сосновыми ветками, которые положили, чтобы уберечь молодую траву.
Когда американская журналистка Присцилла Джонсон около часу дня села в электричку, она сразу поняла, что многие ее попутчики в черном, с букетами сирени, едут на похороны. После Переделкина вагоны опустели; все пассажиры показались Джонсон либо очень молодыми, либо очень старыми — о последних власти писали, что они, «очевидно, из числа старой интеллигенции»[842]. Были там и студенты Литературного института и Московского государственного университета. Они образовали свободную процессию, идущую к даче. На всех перекрестках стояли наряды милиции; милиционеры предупреждали тех, кто приехал на автомобилях, в том числе иностранных журналистов, что им придется оставить машины и последнюю часть пути идти пешком.
Представители власти надеялись возглавить похороны и прилично выглядеть в глазах всего мира. Накануне похорон секретарь местной парторганизации устроил для иностранных корреспондентов экскурсию по поселку, показал в том числе и кладбище, где в тени трех высоких сосен они увидели свежевырытую могилу. Оттуда виден был дом Пастернака. То было кладбище конкурирующих идей: могилы венчали кресты или красные звезды.
«Пастернак будет похоронен[843] в лучшем месте на кладбище», — похвастал функционер.