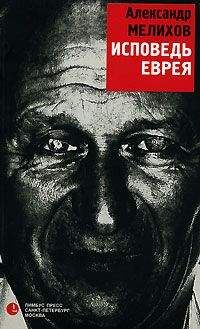в киевском кафе «ХЛАМ» (художники, литераторы, артисты, музыканты) с головы до ног в черной коже и с огромным маузером в деревянной кобуре и читал по-французски Верлена, а по-английски Уайльда. За его кожаной спиной осторожно шептали: «Поэт-комиссар».
Но еще больше устрашали его стихи:
О, эти люди, твердые как камень,
Зажженные сигнальные огни!
Их будут чтить веками и веками,
И говорить о них страницы книг.
В двадцатом его назначили комиссаром подмосковной школы военной не то маскировки, не то разведки, где он учил курсантов пользоваться ножом и вилкой и подавать дамам манто. Оттуда он каждую ночь мотался в «Стойло Пегаса» поражать богему военной формой и чтением наизусть всей русской и европейской поэзии. Однако недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Той же весной Дэнди был приговорен к расстрелу за предумышленный развал маскировки, порочащие связи и подготовку вооруженного ограбления. Страшнее всего было, вспоминал он, когда спарывали комиссарскую звезду. Но в итоге он отсидел всего восемь месяцев и был освобожден по ходатайству Луначарского.
Отсидел меньше, чем младенец в утробе матери, но достаточно, чтобы переродиться.
Хотя от самого приятного бытового разложения он, похоже, не отказался. Первый советский джазист и куплетист Лазарь Вайсбейн весной двадцать второго жаловался жене, во что Русский Дэнди еврейского происхождения со своей компашкой превратил его квартиру: «Они буквально перевернули все вверх дном. Порвали книги. Разлили чернила на скатерть, и, наконец, не стало пижамы, которую подарила Соня (шелковая)».
Шелковая — что за мещанство!
Примерно тогда же Русского Дэнди с избранными ленинградскими литераторами пригласили в Кремль в салон сестры Троцкого Каменевой. Присутствовали очень большие большевистские шишки. И кто-то поддразнил недавнего комиссара: ты вот, говорят, смелый, а не прочтешь ведь здесь свои стихи о Совнаркоме? А он взял и прочел:
Дождусь ли я счастливейшего года,
Когда падет жидовский сей Содом.
Увижу ль я в Бутырках наркомпрода
И на фонариках российский Совнарком?
Но почему-то выслали его в Архангельск только в тридцатом. Снова ненадолго. Через год еще раз арестовали, но отсидел он опять-таки всего два-три месяца. А после на Невском у книжного, где на витрине был выставлен бюст Сталина, вдруг схватился за голову: «И этот идиот с узким лбом правит всей Россией!»
Не исключено, что именно «органы» и распустили слух о том, что он провокатор, — как-то первый Мишель даже не подал ему руки. Но потом все утряслось, и Мишель с Русским Дэнди по-прежнему называли друг друга Теодор и Андреус. Дэнди восхищался, что Мишель доступен любому дураку, хотя дураков он вообще-то не жаловал, про одного из них сказал, что глупее его уже только неодушевленные предметы.
Еще он обожал третьего одессита за виртуозные метафоры, что не помешало ему однажды написать Мишелю, что король метафор ничего не пишет вовсе не из протеста, а просто оттого, что в мире ему ничего не интересно, кроме литературной болтовни под золотые столбы коньяка или даже простую водочку. Лучшую свою книгу он построил на старом как мир интеллигентском самооплевывании, показал превосходство несуществующих новых людей над старыми и сказать ему больше нечего.
Дэнди и сам был мастер фразочек, но проблистал как переводчик моднейших европейцев и американцев (тремя главными языками свободно владел от рождения), заливал о своих ратных подвигах Дос Пассосу, а Андрюшке Жиду что-то наплел о «Льюбянке». При этом зачитывал знакомых чечетками ладожского частушечника, мечтавшего переименовать Пикадилли в улицу Красных Зорь: «Наддали мы жару, эх! на холоду, как резали буржуев в семнадцатом году».
Когда Русского Дэнди уводили, он сказал жене: «Неплохой подарочек получат от меня завтра утром братья Васильевы…» — в их фильме «Волочаевские дни» он изображал враждебного иностранца, по типажу как раз подходил — красавец, щеголь, за версту видать, «не наш»… Он и сам считал, что все, кто пишет изысканно, враги советской власти: если воспитать у людей хороший вкус, она падет из-за своей невыносимой вульгарности.
Потом рассказывали, что за пачку папирос он подписывал любые показания. Правда это или нет, Феликс не настаивал. Если человека расстреляли, к нему можно и снизойти, Феликс ненавидел только уцелевших. Даже проживание в Курятнике он простил Русскому Дэнди за удачную остроту. Когда у стройки надстройки случилась затяжная пауза из-за отсутствия гвоздей, Дэнди сказал начальнику-еврею: «А когда вы нашего Христа распинали, у вас гвозди нашлись?» Может, он и в допросы пытался внести какую-то пылинку перчика.
Феликсу глянулся еще и Кроткий Немец: реальное училище при лютеранской церкви, Блок, живопись, стишки, патриотизм, школа прапорщиков, два ранения, Георгий. После Октября арест, побег к белым, снова ранение, Константинополь, Босфор, охота на черепах, искусство набрасывать на колышки проволочные кольца — верный кусок халвы на Гранд-базаре. Затем Германия, картинки для рекламного бюро, возвращение в Россию — «идти в ногу с историей». Первая проза, похвалы красного графа, сманившего его поменять вехи. Высылка, хлопоты литературных покровителей, помилование, новый арест, избиения, гнойный плеврит, от которого Кроткий Немец и скончался в тюремной больничке, предварительно подписав все, что требовалось.
В первом письме из тюрьмы он просил жену склеить вставную челюсть, сломанную следовательским пресс-папье (зубы были выбиты осколком на германском фронте), а в последнем уже ни о чем не просил:
«Дорогие мои! Одновременно с цингой у меня с марта болели бока. Докатилось до серьезного плеврита. Сейчас у меня температура 39, но было еще хуже. Здесь, в больнице, неплохо. Ничего не передавайте, мне ничего не нужно. Досадно отодвинулся суд. Милые, простите за все, иногда так хочется умереть в этом горячем к вам чувстве. Говорят, надо еще жить. (Дожить до расстрела, реплика Феликса.) Будьте счастливы. Живите друг ради друга. Я для вашего счастья дать уже ничего не могу. Я ни о чем не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же».
Опять рванул бы к белым, что ли, спрашивал Феликс. Хотя Гражданскую Кроткий Немец обрисовал как нуднейшую хозяйственную тягомотину:
Замыв пятна крови и мозги, я повесил гимнастерку на ротной кухне.
Пленный шел, опустив голову, и угрюмо смотрел на дорогу. Через минуту за бараком раздался выстрел.
А потом еще три выстрела.
И завсегда так, рассуждает кашевар, всыпая в котел красные бураки:
Как малость не повезет — всех расстреливают. Эх и борщ будет!..
Рассказчику тоже не до пустяков, ему нужно в темноте втиснуться на нары. А после снять и высушить сапоги, а то ноги запреют.