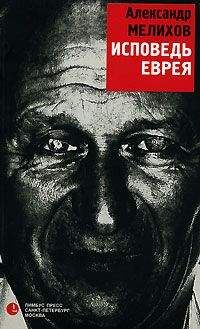вальсы — это было такое мещанство! Но как замирала душа, когда твой единственный семнадцатилетний комиссар полка, успевший арестовать собственного отца за перекупку контрабанды, приглашал тебя предаться этому буржуазному разврату! Я буквально ног под собой не чуяла, ощущала только отнимающую дыхание его руку на моей талии. И холод стыда за мои тяжелые солдатские башмаки на портянках. И понемножку начинала завидовать нэпманским барышням, коротким северным летом форсившим в шляпках и туфельках, когда я донашивала перешитую папочкину шинель, а кое-кто из наших и вовсе щеголял в пальто из старого одеяла.
В конце концов я докатилась до того, что, немилосердно голодая, за какие-то лимоны приобрела у спекулянтов лаковые баретки, выкрашенные трескающимся черным лаком, каким обычно красят могильные оградки.
Потом был дан приказ ему на запад — зашевелились белофинны, и больше я его никогда не видела. Письма не доходили. И между нами так «ничего и не было». Хотя на самом деле было все — его прощальный взгляд из уходящего эшелона остался со мной до гробовой доски. Я еще не раз любила и была счастлива, но новое счастье и новая красота не отменяют прежних. Их может убить только предательство.
Для меня оказалось очень тяжелым открытием, когда уже в Петрограде на текстильной фабрике я увидела своими глазами, что «сознательные комсомольцы» способны поступать по отношению к девушкам как законченные подлецы.
Тогда-то я и вкусила первую славу — по моей «Натке» устраивали диспуты, такие же Натки заваливали меня письмами, просили воздействовать на их Петрух. И я была совершенно счастлива — я была уверена, что книги для этого и пишутся — для активного вмешательства в жизнь.
Я не видела большой разницы между книгой и газетой. Я обожала носиться по стране, ощущая ее собственным домом, а чуть ли не всех встречных своей семьей. Да, попадались, и не в малом числе, жулики, хамы, пьяницы, так ведь и в каждой семье не без урода. Но тут для меня решающим был главный вопрос: если завтра война, на чьей они будут стороне? И почти все в моих мыслях оказывались на нашей.
Встречала ли я пресловутых «положительных героев»? Встречала, хотя никто из них не был коммунистическим совершенством, в каждом были заметны пресловутые родимые пятна и пятнышки, но я их тщательно отбеливала, потому что нужно было изображать ростки нового. Прямых же вредителей я не встречала, я только верила тому, что про них пишут, — иначе пришлось бы рухнуть в новое, еще более ужасное сиротство. Но враги попадались. Их было немного, тех, кому не удавалось скрыть своей ненависти к нам, радости от наших неудач, и у меня они вызывали скорее брезгливое сочувствие — уж слишком они были бессильные и несчастные. Но я понимала, что расслабляться нельзя, чтобы они нам не устроили новую Йоканьгу. Лучше уж мы их заранее укоротим.
И когда у нашей огромной семьи появился общий отец — самый мудрый, самый благородный и самый красивый, — это была окончательная победа над моим сиротством.
Вот я, мне так кажется, и заглянул в дочкину внутреннюю психику. Большевики отобрали у ней отца, но взамен возвернули еще более лучшего. Это как если бы фашисты взяли Ленинград и еёного мужа расшлепали, но взамен этого главный фашист взял бы ее, я извиняюсь, в полюбовницы. И она обратно бы сделалась счастливая и довольная.
Но, рассуждая с другой стороны, чего с нее и взять? Энти три Мишеля предали, идеалистически выражаясь, свои божественные дары ради доходов, удобств и орденов, да еще надежд на Сталинские премии, а адмиральской дочке и предавать было нечего. Никаких таких талантов и поползновений у нее отродясь не водилось. Она выбирала между жизнью и смертью, а позабыть-то ей требовалось всего-то ничего — убийство отца и надругательство над матерью. Плюнуть и растереть.
Я пощупал, много ли еще осталось дочитывать, — оказалось, довольно порядочно. Не пожалел Феликс трудов, глубоко запустил когти в чужие раны.
И правильно сделал, исследователь не должен деликатничать. Какие могут быть диагнозы, если диагност запретит себе упоминать о сифилисе и геморрое?
Другое дело, что мне уже поднадоели подробности, когда конечный вывод и без того совершенно ясен: все советские писатели — трусы и приспособленцы. И я был бы этим совершенно доволен, если бы зуд в груди не усилился до такой степени, что мне уже хотелось запустить туда когти.
Бессильно почесывая грудь, я начал пролистывать страницы, останавливаясь лишь на том, за что зацепится глаз. Феликс явно снисходил только к тем, кого посадили, а еще лучше — расстреляли.
Снисходил, и зря. Быть посаженным, расстрелянным или подохнуть от вируса — заслуга в этом одна, нулевая. Я испытывал гордость, что теперь по части принципиальности не уступлю и самому Феликсу.
Правда, поэту-бухгалтеру Феликс прощал его «Горийскую симфонию» за то, что в своих столбцах тот гениально прикидывался дебилом — тоже строил рожи победившему жлобству, а на допросах сутки за сутками сидел на стуле без сна и еды, разорвал ботинки, чтобы выдержать боль в отекших ступнях, а потом забаррикадировался в зарешеченной камере и начал отбиваться от палачей шваброй, — врачи удивлялись, как после такого избиения у него уцелели внутренние органы. На «общих» его тоже не раз спасали только чудеса. Но однажды на сопке он сорвал большой красный цветок и сказал, что и мы после смерти станем такими вот цветами и будем жить совсем другой, непонятной нам сейчас жизнью. Потому что атомы, из которых мы состоим, сами одушевленные существа.
Феликса восхищало, что кто-то мог верить в подобную белиберду, а не в марксизм-сталинизм.
Ладно, согласен, за белиберду ему можно выдать орден. А за «Горийскую симфонию» в честь дерзкого властелина — клеймо приспособленца. Пусть так и носит оба эти украшения.
Зато Русский Дэнди, именно Дэнди, наоборот, приглянулся Феликсу тем, что всю жизнь морочил кому-то голову. Возвышенному Гаэтану наболтал, что все их поколение сплошные наркоманы, что их ничего не интересует, акромя стихов, а виноваты нынешние поэты: мы просили хлеба, а вы нам давали камень. Конечно, считал Феликс, эстет Дэнди был не так глуп, чтобы просить у поэтов хлеба. И своей поэтической смесью футуристических восклицаний и символических шепотов он тоже хотел подразнить небожителя, ибо лучше всех знал цену таким коктейлям. И к большевикам он наверняка примкнул смеха ради: про его участие в битвах известно только с его слов, очевидцы вспоминают лишь о том, как он появлялся