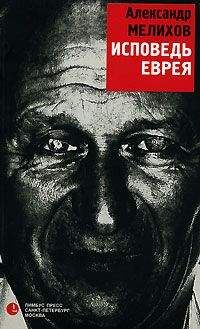есть, но мне было больше неохота с этим разбираться, я теперь и сам на все смотрел глазами грифа. И мне было прямо-таки странно вспоминать, до чего после первого Мишеля я был взбешен жестокостью Феликса: ну да, проявил человек слабость, но мы-то с какой такой высоты заслужили право судить его? Помимо законов правды есть и законы милосердия, всегда считалось, что страдания искупают вину — и так далее и так далее. Но я читал, читал, и правда незаметно отвоевывала у милосердия территорию за территорией…
И наконец правда победила. Я презирал весь Курятник скопом. И наслаждался этим, расчесывая под рубашкой потную жирноватую грудь.
Я обчитал в википедии кое-что вокруг слова «мимикрия» и позвонил Музе, непримиримый, как сам Феликс:
— Не нужно никакого альбатроса, лепи памятник хамелеону. Ты подожди, подожди, не отказывайся с порога. Мы такой забабахаем памятник советским писателям, что сам товарищ Сталин от ужаса во гробе содрогнется. Наш хамелеон будет не просто менять цвет. В солнечный день он будет сиять, как солнце, в ненастный — клубиться тучами, а в грозу искриться. А еще по части мимикрии некоторые насекомые до того увлекаются сходством с листьями, что от них можно отрезать кусочек, и они не заметят. Как тебе такая идея: писателю отпиливают ногу… или еще чего-нибудь… а он с трибуны продолжает со счастливым видом толкать оптимистическую речь!
Да, Феликс меня-таки распропагандировал. Нет, мое сочувствие к бывшим соседям, пожалуй, даже возросло, но уважение исчезло. Теперь я им сочувствовал с изрядной примесью брезгливости. Я бы наслаждался ею, если бы не проклятый зуд в груди.
— Можно теперь и мне вставить словцо? — Муза была явно раздражена. — Я альбатроса уже закончила в пластилине и фотографию отправила для ознакомления двум членам жюри. Там все чиновники, но есть и один скульптор. И еще дочь Алтайского, она же тетенька вроде бы культурная. Хотела и тебе послать, но теперь не буду, а то еще настроение собьешь.
— Да ладно, не буду сбивать тебе драйв и позитив. Я в любом случае буду с тобой. Творчество — дело святое. Прости, что суюсь, удачи!
Удачи я пожелал ей через силу, я по-прежнему считал образ альбатроса слишком для всех для них жирным. Но художники, видимо, обязаны слушаться только себя, Феликс ведь в том их и обвиняет, что они угождали еще кому-то.
А к чему же «в конечном окончательном итоге» подвел сам Феликс?
Я раскрыл последнюю страницу, не прекращая своих расчесываний, — грудь уже горела и внутри, и снаружи:
…И вот я закончил труд, завещанный от деда. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Словно я, ничем не рискуя, совершил безнаказанную подлость.
Но в чем же эта подлость, неужели в том, что я не преклонился перед страданием, а сохранил трезвую голову? Страдание можно уважать, если человек пошел на него добровольно, ради какого-то «во имя». А если его забила шпана, с которой он сорок лет до этого пытался поладить, то никакой заслуги в этом нет.
Я же не лгал, ну, разве что малость подраскрасил подражательным юморком…
Вот! Тут-то она и таилась, подлость! В юморке, в насмешечках над пожизненной пыткой. В насмешечках, рожденных не гневом, не болью, не обидой, а хладнокровным выполнением заказа.
Не важно чьего. Месть простительна, если ты ослеплен обидой, а я не был ослеплен. Я влагал персты в чужие раны даже не с любопытством, но с насмешкой и едва ли не со злорадством, и вот этого-то злорадства простить нельзя.
Так что же, я не обязан был выполнять предсмертную волю моего неукрощенного дедушки?
Да, не обязан.
Смерть должна полагать предел любой распре.
Пусть они сами там объясняются между собой на небесах.
Иначе мести не будет конца.
Есть же завет: не судите, да не судимы будете.
Но я-то готов и хочу быть судимым!
По другому завету: какою мерой мерите, такою и вам будут мерить. Пускай мне отмерят презрение и забвение, если я откажусь видеть и понимать то, что я вижу и понимаю, пусть даже я тысячу раз неправ.
Этих троих Мишелей, о которых я пишу, Бог или Рок наградил даром видеть безумие и безобразие мира сего, а они променяли грандиозность этого безумия и безобразия на мизерность угодничества перед торжествующей силой жлобства.
И пусть меня распнут, но никто не скажет, что я видел чью бы то ни было ложь и промолчал.
Или опустил глаза перед чьим бы то ни было идолом…
Силен гриф, силен… Орел!
Интересно, что про Алтайского не было ни слова. Бережет его на десерт.
Я выглянул в окно — солнца в нашем дворе уже не было, но и тьмы тоже, белые ночи еще держались. Надо пройтись, нельзя целый день сидеть за книгой, да еще такой… перепахивающей. Когда я встал из-за стола, меня сильно шатнуло.
Надо взять себя в руки, хотя бы на улице перестать чесаться.
Когда я это себе приказал, вроде бы и зуд поутих.
Меня пошатывало до Итальянского мостика, где на фоне Спаса на Крови просветленно фоткались «понаехавшие», которых не мог остановить и ковид в их жажде приобщиться к культурной столице. Обычно мне их серьезность и просветленность казались трогательными — ни расходы, ни холод, ни жара их не останавливали в их стремлении ощутить причастность к чему-то вечному, — даже незатейливые человеческие существа все-таки высокие создания. Но сейчас меня передернуло от отвращения к ним: жлобье, туда же лезут со свиным рылом в имперскую столицу! Которую такие же их свиноподобные предки когда-то растоптали до уровня советского захолустья. Да и здесь выбрали главную попсу в стиле рюсс, хоть и Казанский у них же за спиной! Все-таки порыв в Европу!
От злости даже головокружение меня оставило, и по набережной к корпусу Бенуа я шел довольно уверенно, стараясь поддерживать «социальную дистанцию» между собой и этой швалью не столько из опасения заразиться, сколько из гадливости. Какие-то свиные рыла вместо лиц! Особенно те, кто были без масок: умничают еще тоже, выбирают, надевать или не надевать, как будто что-то понимают! Впрочем, те, что были в масках, раздражали меня не меньше: вот бараны, что им скажут, то и делают, прикажут им вешаться, так они и свои веревки принесут!
Две девки фоткались с обезьянкой на руках — только в ее мордочке среди этого обезьянника и было что-то человеческое…
«Налитые пивом обыватели», — прозвучало у меня в ушах из глубины десятилетий, и голос был чуть ли не мой собственный. Ба, так это же Феликс