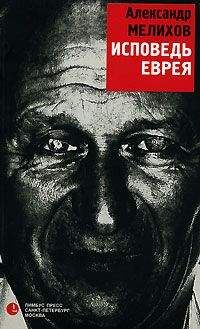себя в ванне холодными струями, пока не начал трястись и всхлипывать, но все увиденное и услышанное продолжало жить в глазах и в ушах. Одно было хорошо — зуд в груди рассосался. С трудом оттершись от дрожи, я попытался стереть галлюцинацию телевизором, стараясь утешить себя тем, что отношусь к своему бреду критически, а это сумасшедшим вроде бы не свойственно.
По «Культуре» очень недурно пели «Фауста»; пели на языке оригинала, как теперь принято, и было невозможно понять, Франция это или Удмуртия. Зато современность пробивалась в каждую щель. Фауст ведь был доктор, поэтому он разливался соловьем в белом медицинском халате с бейджиком, и Мефистофель гремел в таком же больничном халате без всяких этих отстойных бородок клинышком. Приближают к современности. А того не соображают, пошляки, что нам нужен мир, наоборот, далекий, иной, и если бы в нашей памяти не проступала каноническая бородка при шпаге и шляпе с пером, то вся эта ахинея и предстала бы ахинеей, каковой она и является. Но неиссякаемое вдохновение пошляка все же слегка отвлекло меня от тягостного опасения, что я сошел-таки с ума.
Засвиристел телефон.
— Привет, это Феликс. Ты не против, я к тебе минут через двадцать зайду обсудить Алтайского в жизни.
Это прозвучало скорее утверждением, чем вопросом.
— Заходи, разумеется.
— Я уже начал книгу «Алтайский как зеркало». Всего сразу. Значит, жди.
— Когда будешь на воротах звонить, говори, что идешь в музей Зощенко, меньше придется объяснять. Хотя нет, музей уже закрыт, помнишь номер моей квартиры?
Он помнил. Силен.
И тут же настырное урчание мобильника. Боб.
— Я к тебе сейчас зайду поговорить насчет памятника. Инна просила.
— Хорошо, оставь дверь внизу открытой. Ко мне должны прийти. Заложи кирпичом, он там слева лежит.
Боб был в тех же тесноватых шортах и солнечной безрукавке с распущенной шнуровкой, хотя его серьезности требовался минимум смокинг. И руку стиснул так патетично, что я даже поморщился. Поэтому и пригласил его в кухоньку — чайник разряжает обстановку.
Однако Боб левой рукой отмел предложенное угощение, а правой коснулся выложенного на стол планшета. На экране возник пластилиновый птичник: что-то клевали растрепанные куры, ликующе вопил петух, а в сторонке торчала какая-то понурая более крупная фигура — я не сразу понял, что это альбатрос. Но когда Боб раздвинутой щепотью его увеличил, я обомлел: Муза наметила альбатроса в тысячу раз лучше, чем я мог бы вообразить своими технарскими мозгами.
Понурые веки у него были человеческие, и видно было, что он не столько страшится, сколько стыдится поднять глаза; его длинный клюв отдавал гоголевской унылостью, а в огромные крылья он запахнулся явно не от холода, но от стыда. Однако углы их выпирали настолько мощно, что сила из него все равно так и перла.
— Гениально! — вырвалось у меня.
— Ты считаешь, гениально? А вот Инна считает, что это какое-то надругательство. Я не хочу на тебя наезжать, я в этом ничего не смыслю, но, если ты к своей красавице хорошо относишься, попроси ее не подавать официально. Решение все равно уже принято, будет нормальный памятник: смотрит вдаль, рука на книге, все всем понятно. Но наверняка найдутся охотники это дело раздуть — затирают молодые дарования и всякое такое. Так я тебе сразу скажу: ничего, кроме неприятностей, для нее из этого не выйдет. А от себя я спрошу: тебе дорого ее благополучие?
Начинал он смущенно, не поднимая взгляд от планшета, как будто передавая чужие слова. Но последний вопрос задал очень твердо, глядя мне прямо в глаза, и даже простоватость его куда-то подевалась, осталась только воля.
Пробудившая во мне встречную волю. Еще утром я от всего сердца ответил бы, что для меня нет ничего важнее благополучия Музы, но сейчас в меня как будто вселилась орлиная душа самого Феликса, и я отчеканил, пугаясь и стыдясь того, что произношу:
— Творчество выше благополучия.
Боб помолчал, разглядывая меня, будто незнакомого, а потом хмыкнул:
— Крупным калибром заряжаешь.
— Так и противник не мелкий.
Я тоже, не мигая, смотрел ему в глаза, как будто мы играли в гляделки.
Долгая пауза.
— Зря ты объявляешь нам войну.
— Это вы объявили войну, я только защищаюсь.
Боб еще посидел, гоняя взад-вперед картинку на планшете, и несчастный альбатрос то заполнял весь экран, то терялся за жизнерадостными курами с их ликующим вождем. Боб был славный мужик, и ему трудно было уйти не помирившись, но я молчал. Покуда в моей душе росло и отливалось что-то небывало для меня патетическое типа «лучше смерть, чем предательство».
Боб заерзал, намереваясь встать, и тут мелодично и протяжно, будто камертон, прозвучал входной звонок.
— Открыто! — крикнул я, радуясь, что можно снизить градус пафоса, и в дверях появился Феликс, пожухлый полуседой Дон Кихот весь в белом, заметно, правда, обвисшем: из моей кухоньки через короткий узкий коридорчик отлично видно входную дверь.
— Проходи! — снова крикнул я по инерции.
Феликс сделал несколько шагов и остановился в кухонных дверях.
— У меня хороший слух, — начал он разговор с микровыговора, намекая на мою громогласность, и я решил не вставать.
— Садись, третьим будешь, — я подвинул ему небольшой табурет, стулья в мою кухоньку не вмещались.
Мы с Бобом сидели напротив друг друга через небогатую длину кухонного столика, и Феликс уселся между нами, так что познакомить их с Бобом было вполне удобно. Точнее, было бы неудобно не познакомить.
— Знакомьтесь, это Феликс, известный историк литературы. А это Борис, известный метеоролог. И, кстати, муж дочери Алтайского.
Я подумал, что зря это прибавил, но все равно бы через минуту всплыло. Пришлось тут же добавить, что Феликс пишет книгу про Алтайского.
Обычная приветливость Боба, при виде незнакомого человека начавшая было возвращаться на его простоватую физиономию, мгновенно сменилась настороженностью. А надменный взгляд Феликса загорелся саркастической пытливостью.
— Ого! Это я удачно зашел. На ловца и зверь… Скажите, пожалуйста, как синоптик синоптику: каким был Алтайский в домашнем быту? Социальные приспособленцы довольно часто бывают семейными тиранами.
Я замер. Боб тоже окаменел, не сводя с Феликса остановившихся глаз.
А потом резко поднялся, опрокинув табурет.
— Ну-ка встань!
— Если я встану, то ты ляжешь, учил меня отвечать мой дед, сталинский зэк и столбовой дворянин, — в голосе Феликса прозвучала ленивая вальяжность — ради таких минут он и жил. — Но дворянин и зэк всегда должны быть при шпаге.
Он что-то извлек из кармана своих великоватых белых панталон, встряхнул под столом и медленно поднялся, держа в руке свой любимый складной нож, пронесенный через годы и континенты.
Они стояли друг против друга — Феликс