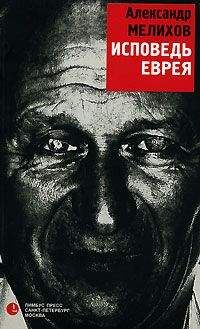важно, чего ты там полезного делаешь, а куда более важнее, какие правильные ты слова произносишь. И еще наиболее самое важное — к чьим словам ты крайне напряженно прислушиваешься.
Мария бежала переулками, спотыкаясь в темноте, натыкаясь на встречных. И вдруг откуда-то издалека ясный голос, очень спокойный и неторопливый сказал себе и ей:
— …наша армия терпит временные неудачи, вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряд областей нашей страны.
Она знала это, болела этим, но в звучащем над улицей голосе было такое спокойствие и знание, что Мария невольно прислушалась, а голос спросил себя и ее:
— Где причина временных военных неудач Красной Армии?
И по тому, как он тотчас уверенно и продуманно стал объяснять эти причины, и еще по тому живительному ощущению силы и душевной крепости, которое внушал каждый звук этого немолодого и мудрого голоса, — Мария поняла, что говорит Сталин.
Она слушала и про себя отвечала: «Да. Да. Именно так!» — и ей уже представлялось, что она и раньше думала так же, но не умела обобщить и высказать свои мысли.
С этим голосом над собою Мария дошла до угла, откуда могла увидеть свой дом или пустоту неба над местом, где он стоял. Она увидела дом таким, как всегда, черной махиной без единого проблеска света, и уже знала, что через минуту увидит светлые волосенки сына, торчащие из-под синего одеяла, и послушает его ровное дыхание, и наклонится над ним, чтобы защитить его от всякой беды, если беда близка.
С точки зрения грубого материального подхода Мария своим гордым отказом эвакуироваться мало того, что приговорила к голодным и холодным мучениям и почти что непременному помиранию небольшого ребеночка и довольно-таки старенькую мамашку, но и повесила на шею геройскому городу двух, я извиняюсь, иждивенцев. Но в том-то и находилось величие великой советской литературы, что герою полагалось больше размышлять про то, как принести побольше жертв, а не про то, как доставить побольше пользы.
Ну а мамашку-то свою гордая Мария принесла в жертву, даже и не поинтересовавшись ее отсталым мнением.
С тех пор, как Анна Константиновна слегла, на Марию навалились все домашние заботы, она ходила на рынки и выменивала одно платье за другим на чашку крупы, на кусочки сахара или на ломоть хлеба. В детской консультации для Андрюши отпускали соевое молоко, за ним тоже надо было ходить. Как бы трудно и утомительно это ни бывало, Мария все же была рада тому, что она не убежала от пытки войны, что она все это видит, вынесла и выносит вместе со своими согражданами.
Вот какие до крайности возвышенные уроки преподавала читательской массе бывшая адмиральская дочка: радоваться полагается не тому, что делаешь чего-то полезное, а тому, что честно и благородно мучаешься:
Мария дотронулась до руки матери — рука была ледяная. Мария поняла, что конец близок. Но с каким-то тупым безразличием она отошла от постели матери и занялась обычными вечерними делами — накормила Андрюшу, уложила его в постель, тихонько спела ему песенку.
Когда сын заснул, она прижалась спиной и захолодевшими ладонями к теплой печке и долго не могла заставить себя посмотреть в ту сторону, где лежала мать.
Тело Анны Константиновны уже застыло, голова была закинута назад, запавший рот приоткрыт, глаза остекленели. Мария прикрыла глаза матери и некоторое время придерживала пальцами веки, чтобы они не открылись вновь. Прикрыла рот и тоже подержала рукою челюсти, чтобы они сомкнулись. Затем все с тем же спокойствием разыскала чистое белье, голубое любимое платье матери, светлые чулки. С усилием приподняла уже неподатливое тело и кое-как натянула на него белье и платье.
«Враги», — вспомнила Мария, и вдруг ненависть к ним, как живое существо, шевельнулась в ее груди и потрясла ее всю, до кончиков пальцев.
И тотчас мысль, единственная светлая сила в этой ее недоброй ночи, поставила это страстное чувство в общую связь со всем, что наполняло и направляло ее жизнь и жизнь ее сограждан.
И уже, наверное, копится сила для решающего удара. Он будет. Сталин сказал об этом. Мы можем погибнуть?.. Но что значит в ходе больших битв несколько тысяч жизней? Что значит на весах войны, на весах истории жизнь моей мамы?..
Таким вот манером адмиральская дочка и шагала в ногу со временем — чего бы такого неприятного ни стряслось, кругом во всем виноватые враги. А что она самолично до крайности гордо отказалась вывозить мамашку с этим трусливым мужем — так на весах истории одной мамашкой больше, одной меньше…
На этом месте какие-нибудь очень уж до крайности отзывчивые гуманисты могут меня сурово попрекнуть, что я сужу адмиральскую дочку чересчур слишком строго, что надо ее внутренне понять, погрузиться в еёную внутреннюю психику. Так хотите, я мало того, что погружусь, но еще и толкану защитительную речугу от ее первого лица?
Ну тогда слушайте и не перебивайте.
Когда папочку подло застрелили в спину, а потом приволокли с облепленным снегом лицом и плюхнули на неструганый стол страшные чужие люди — это было в миллион раз ужаснее, чем оторванные руки и ноги с «Императрицы Марии». Это была не просто смерть любимого человека — это было осквернение святыни, втаптывание в грязь всего самого прекрасного и благородного, что я, девчонка, могла только вообразить.
А как чудесно все начиналась — солнечная крымская весна, под оркестровой раковиной выздоравливающие фронтовики с красными бантиками, курортная публика самозабвенно им аплодирует, все влюблены друг в друга, — и тут один солдат, иссохший и бледный, как сама смерть, злобно кричит: «Рано расхлопались, буржуи! Как бы нам из-за вас всю революцию не просрать!» Я еще не знала, что мы с сестренкой и мои любимые папочка и мамочка и есть эти самые буржуи, но мне все равно стало страшно. Меня всегда пугали люди, готовые своей злобой разрушить общий праздник, но такого контраста между всеобщей радостью и злобой я еще не видела. И тут по рядам прошелестело незнакомое слово «большевик», — навеки оттиснулось в моей детской памяти как что-то маленькое и чахлое, но непримиримо злобное. Я поняла, что эта сила восстает не только против ненавистного царизма, но и против всех человеческих приличий.
До Мурманска мы тащились в поезде дней десять, шпалы на болотистом грунте играли, как клавиши, мосты скрипели и колыхались, но куда