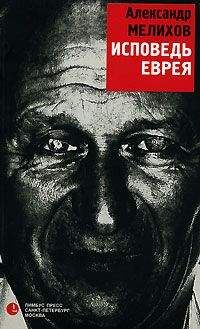страшнее были наши голодные и оборванные попутчики. Они все время примеривались выбросить нас из поезда, и я радовалась, что поезд ползет так медленно. А однажды на каком-то подъеме поезд разорвало пополам, и головная часть с паровозом укатила вперед, а мы остались среди снежной пустыни, оживленной только черными вспышками чахлых кустиков. Сначала нам показалось, что мы оглохли, — такая стояла тишина. А наши спутники в связи с «диверсией» первым делом решили расправиться с нами. Но кто-то сказал, что наш папочка признал советскую власть, — и эти звери тут же превратились в милейших детишек. Из отсыревшего снега принялись катать снежных баб, перекидываться снежками…
Уже в Мурманске у нас в кладовке очень дружно жили медвежонок и собачонка. Но кто-то не то со зла, не то по глупости угостил его сырым мясом, и медвежонок сразу же задрал свою вчерашнюю подружку. А потом начал кидаться на всех подряд, и его пришлось пристрелить. И я вспоминала наших спутников — какими они были добрыми, когда играли в снежки, и как они сразу озверели, когда на митингах и в партийных комитетах снова причастились свежей кровью.
Предревком, который на суде довел папочку до слез, ласково гладил меня по голове, — у меня такая же где-то растет, пять лет не видал, — а я вся сжималась: медвежонок тоже был добродушный…
Папочка с Предревкомом постоянно спорили, дать англичанам разрешение на высадку или не давать? Предревком стоял за англичан: без них чего жрать будем? Папочка был против: продадим Россию за чечевичную похлебку. Иногда подключался красноносый адмирал Кемп. А потом вдруг выстрелы, папа весь в снегу, снег в глазах, в бородке, во рту, гроб из такого же стола, окаменевшая мама, не смахивающая снег с папочкиного лица, сама белая-белая, как этот не тающий снег…
Затем жиденький салют — берегут боеприпасы.
Потом липовый теракт — никого не ранившая граната, высадка англичан «для предотвращения новых покушений». Несогласные с английской оккупацией матросы попытались отправить на берег свой отряд, но их шлюпку расстреляли с берега, — больше вмешиваться в земные дела они не пытались. А вскоре всех подозрительных погнали по снегу со скрученными за спиной руками в какую-то страшную Печенгу или Йоканьгу, это была подземная тюрьма где-то между заполярным морем и тундрой.
В листовках, расклеенных «союзниками» на столбах, без дипломатических ужимок было выделено жирным шрифтом: будете сыты. Чечевичная похлебка, вспомнила я папу.
Но мне уже было не до гордости — чечевичная так чечевичная. И английские матросы откровенно бродили по вечерам с плитками шоколада или с женскими чулками на шее, и охотницы непременно к ним подтягивались. И я уже не испытывала отвращения к ним, только ужас, что когда-нибудь и мне придется потянуться и за такой вот чечевичной похлебкой. Я уже не обольщалась насчет себя, я понимала, что мне не по плечу этот гордый выбор: лучше смерть, чем бесчестье.
Но я уже слышала, что в Англии докеры отказываются грузить для Мурманска оружие и все остальное, а во многих странах идут демонстрации «Руки прочь от России!», — неужели она и правда есть, эта самая пролетарская солидарность?.. И только я одна-одинешенька… Да еще мама, такая же отверженная… Такая тоска!
И тут демонстрация! И это было такое счастье — наконец-то шагать вместе со всеми! По лужам так по лужам! Что лужи, если меня с двух сторон поддерживают сильные матросские руки, а все патрули как ветром сдуло, и я стараюсь петь как можно более грозно: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе!» Черные обтрепанные бушлаты и засаленные полушубки, но обветренные лица полны решимости, а глаза зорко что-то высматривают за кружением белых хлопьев, наверно, у них в карманах наганы, а за пазухой лимонки, — пусть Они к Нам только сунутся! И женщин много, и даже Люська из нашего барака, которую называют б…ю (я все еще не научилась выговаривать это слово), шагает с нами, как всегда, скаля зубы и выкрикивая собственные лозунги: хватит лизать англичанам…
Я все еще краснею от этого слова, но именно оно вызывает у меня особенно острый прилив счастья: вот так непочтительно и надо говорить об интервентах!
Патрули снова вышли на улицу только после нас, и я нарочно шла прямо на них, дерзко вскинув голову, но они не обращали на меня никакого внимания. Они же не знали, что я наконец-то обрела самое главное — возможность шагать в строю.
Перед которым отступают враги.
И не все ли равно, кто они такие, мои соратники! Главное, они сильные и смелые, и я в их рядах.
Вот так бы шагать и шагать без конца…
Английская эскадра удалилась с рейда по-английски, не прощаясь, и пароход с Йоканьги швартовался тоже без оркестра. Первых узников почему-то вели под руки. А когда мы наконец разглядели их лица, мертвую тишину прорезал женский вопль: это были стеариновые маски каких-то карикатурных монголов — заплывшие щелочки-глаза, едва различимые носы, утонувшие в раздувшихся щеках… Руки тоже были раздуты, будто резиновые перчатки, налитые водой, обветшавшие драные штаны лопались на едва передвигаемых ногах-тумбах. Какая-то обезумевшая женщина начала метаться от одного чудовища к другому, хватая их за лица, пытаясь разглядеть дорогие черты. Но маски оставались совершенно неподвижными, и продавленные ее пальцами ямки не заплывали.
Затем начали выносить на носилках тех, кто не мог идти, их было еще больше, а последними тех, кто умер уже в дороге.
Впоследствии мне приходилось видеть очень много разорванных, раздавленных, сожженных, истекающих кровью, вопящих людей, промерзлые трупы с вырезанными ягодицами, но я и тогда не испытывала такого запредельного ужаса, такого беспросветного отчаяния. Одни люди не должны, НЕ МОГУТ так поступать с другими, как бы и из-за чего бы они на них ни сердились, стучало у меня в душе. Я уже смирилась с тем, что негодяи могут стрелять в спину даже таким прекраснейшим людям, как мой папочка. Но медленно, хладнокровно и мучительно доводить до умирания — нет, ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Но это было. И это делали цивилизованные люди, не дикари.
И значит, жить в этом мире нельзя.
Единственным солнышком в этой ледяной космической ночи оставалась моя мамочка. Превратившись в сестру милосердия, она дневала и ночевала в госпитале, наспех оборудованном в Морском клубе, самоотверженно выхаживая «краснопузую сволочь». Она выбегала ко мне только на минуту, в белом халате и косынке, бледная, замученная, с красными от бессонных ночей глазами, но чрезвычайно деловая, рассеянно интересовалась,