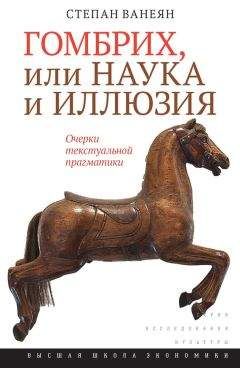Однозначное изображение как честное изображение
Что же не устраивает Гомбриха? Почему он объявляет несуществующими те самые вещи, которые только что сам же и упомянул? Объяснение может быть только одно: для Гомбриха множественность значений, их буквально множественное число означает разлад, неопределенность и двусмысленность. Кроме того, если понимать значение как атрибут или характеристику вещи (а не высказывания, что было бы вернее), то для живописного полотна, для картины, если она в единственном числе, таковое значение тоже может быть одно: уникальность творения – уникальность смысла…
Но проблема, как нам представляется, не совсем в этом: Гомбриху крайне важно показать правильный и, значит, единственно возможный способ обращения с художественной вещью, которая, как ему кажется, не может быть подсобным средством или поводом для аллегорически-экзегетических упражнений. Это видно из того, как именно он интерпретирует два толкования одной картины Леонардо из Лувра, где изображена Дева Мария с Младенцем на коленях св. Анны (1510). Одно из них принадлежит фра Пьетро да Новелларасу, указывающему, что фигура св. Анны может обозначать Церковь, не желающую скрывать Страсти (св. Анна изображается препятствующей Марии, которая в свою очередь пытается отстранить Младенца от ягненка, образа-намека будущей Жертвы). Второе толкование – поэтическое, это сонет, принадлежащий Джироламо Казио и представляющий собой воспроизведение воображаемого диалога между св. Анной и Марией – примерно на ту же тему («ты хочешь Его уберечь, но остерегись, ибо Жертву Небеса определили»).
Понятно, что первое толкование не устраивает Гомбриха по той причине, что он усматривает в нем «указующий на два значения перст»[265], тогда как в сонете всего лишь точно иллюстрируется идея пророческого дара св. Анны без всяких намеков на аллегорию.
Можно просто пожать плечами и лишний раз удивиться, насколько невзыскательным может быть искусствознание, пережившее свои лучшие годы где-то в 50–60-е годы, а сейчас в лице своего совсем даже не последнего представителя путающее св. Анну – мать Пресвятой Девы – и пророчицу Анну.
Важно заметить, что Гомбриха смущает именно указующий жест интерпретатора, хотя как раз это для того же Варбурга было прямым смыслом самой интерпретации – возможность именно осмысленной жестикуляции как точное воспроизведение способа обращения с материалом со стороны художника, вся деятельность которого – система смыслопорождающих жестов. Это и есть творческие акты, создающие не только формы, но и значения – причем именно в акте указания, особенно визуального (существует, строго говоря, лишь то, что можно увидеть, а увидеть можно лишь то, на что указано – хотя бы собственным взглядом, который именно брошен и в котором сияет мгновение ока).
Для Гомбриха же такого рода толкование слишком напоминает психоаналитические процедуры с их смешением причин и следствия, о которых Гомбрих считает возможным говорить в связи с творчеством:
…всякая человеческая деятельность, включающая и написание картин, представляет собой результат многочисленных, если не бесконечно многих взаимодействующих причин[266].
Оставим подобный детерминизм на теоретической совести Гомбриха, не делающего различий между физической вещью и эстетическим объектом, более того, использующего в своем смысле психоаналитическое понятие «сверхдетерминация». Он видит в ней всю совокупность причин и обстоятельств появления вещи, хотя на самом деле это невротический прием наделения чего-либо сверхзначением, защитная сверхоценка, предназначенная как раз для разоблачения.
Этот характерный для Гомбриха прием слегка саркастического перевода явления или проблемы из области реальности в область чисто ментальную чуть дальше дает такой сбой, который даже и оговоркой назвать затруднительно. Рассуждая о трудностях с выявлением подлинной интенциональности (на самом деле – замысла-устремления), Гомбрих утверждает, что намеренное значение – это даже не психологическая категория, ведь иначе компьютер не мог бы выдавать осмысленные фразы. Значение и символы, то есть знаковые системы, – это «категории исключительно общественных конвенций»[267]. Можем ли мы допустить, что Гомбрих настолько несведущ в кибернетике, что не подозревает о том, что компьютерные программы пишутся людьми, что есть акт психологический? Социальный символизм не исключает психику и психологию – просто это как иной уровень человеческого существования, реализующего себя уже медиально, то есть опосредованно-коммуникативно, инструментально-прагматически, где этика компенсируется не эстетикой, а техникой.
Но этого мало: обращаясь к толкованию Челлини собственного творения («солонка для Франциска I»), Гомбрих объясняет, что потребность в рационализации – естественное стремление человека и рассматривание художественного творения всегда сопровождается прибавочным значением, которое мы встраиваем в «выразительную структуру» произведения, тем самым «делая его живым».
Полутень неопределенного, «открытость» символа сущностно принадлежат каждому истинному произведению искусства[268].
Но историк призван смиряться перед доказуемым материалом и видеть невозможность различать, где элемент значимый, а где – нет. Поэтому столь важно всегда помнить, говорит Гомбрих, что искусство открыто навстречу интерпретаторским «затеям» post factum, так что в какой-то момент уже не понятно, где кончается «первоначальная интенция». Иначе говоря, подразумевается отбор материала по его содержательным характеристикам, что не может не выглядеть сомнительным и не может не вызывать обратную реакцию – методологически просто неизбежную.
Выглядят эти рассуждения на первый взгляд довольно приемлемо, если не обращать внимания на такое вопиющее заявление, что нечто – особенно элемент отношений, то есть структуры – может быть ничего не значащим. Тем более если речь идет о структуре, то это значит и подразумевает именно систему правил, собственно синтаксис. Это есть истинная и первоначальная интенция, которой, но вовсе не первоначальному значению, и должна соответствовать любая интерпретация. Мы должны именно соответствовать и воспроизводить отношения, наполняя их каждый раз значением. Ведь постулат самого Гомбриха о том, что именно мы придаем значение вещам, распространяется и на вещь художественную.
То есть для Гомбриха просто ничего не значат никакие значения за пределами того, что можно «извлечь» из произведения искусства. Вернее, приписать произведению искусства, извлекая значение из иных источников, более достоверных в силу своей документальности и именно – не художественности, то есть серьезности и буквальности. Обратим внимание, что мы имеем двойную дополнительность смысла: 1) смысла, дополняющего смысловое пустое множество самого произведения; 2) смысла самого акта дополнения – смысла, имеющего в виду пустое множество сознания историка. Совсем не сложно заметить, насколько мифологично и почти что магично выглядят эти мыслительные процедуры, только создающие видимость здравомыслия и иллюзию владения хотя бы собственным мыслительным и вообще психическим аппаратом, для которого почти всегда бессмысленность – стигма безумия.
Ритуалы понимания как магическая игра
Произведение, циркулирующее в научно-историческом дискурсе, таким образом, понимается как исторический источник-памятник, сознательно и целенаправленно отчуждаемый от любой актуальности как источника угроз для неизменности, постоянства и т. д. Но чтобы сохранить, как мы знаем, лучше всего – захоронить, погрести под риторическим курганом плоского здравомыслия. Так что замысел Гомбриха – показать неустранимость здравого смысла для науки, вынужденной всего лишь включаться в процесс «седементации» значения как неизбежной активности повседневного сознания.
Но важна не только эта законнически-заклинательная, регламентирующая и историзирующая «интенция» как таковая, а конкретный механизм ее осуществления. Для Гомбриха он тоже крайне конвенционален и сводится буквально к ссылке на правила жанра, на закон конвенции и норму договора, именуемого исторической наукой, что тоже не может не быть референцией. Получается, что вся концепция Гомбриха – это означающее-симптом, отсылка-индекс к мета-ситуации, где реальностью оказывается всего лишь акт говорения, регулируемый респектабельным этикетом, и где эйдосу и сакруму – не место не только потому, что это внутри науки неуместно, но и потому, что невместимо.
На самом деле позиция Гомбриха проясняется – отчасти, – когда он упоминает о ренессансной практике аллегорических построений (со ссылкой на Вазари). Из этих текстов, согласно Гомбриху, никак не следует одно: намеренное использование изображений (живописных или скульптурных) для передачи противоположных друг другу смыслов или столь же сознательное использование фигуры для разных событий (такова мысль самого Гомбриха). Можно любить сложноустроенную аллегорическую систему, тщательно ее моделировать текстуально, но когда речь идет о создании визуальных построений, никаких двусмысленностей быть не может: мы не можем в одном и том же месте видеть разные вещи. Таково непреложное мнение Гомбриха, выдающее в нем, как это ни покажется неожиданным, скрытого психоаналитика…