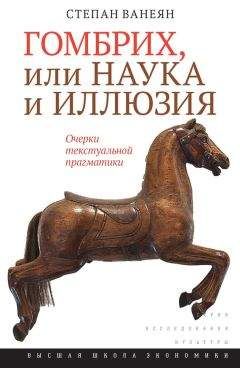Двойной смысл должен присутствовать одновременно только в сознании, и потому двойной смысл – именно эквивалент двусмысленности, иллюзии, обмана, что тем более невыносимо, если учесть, что значение связано с актом «наделения образа смыслом». Именно это и есть значение изображения, и художник не имеет права, если он не невротик – подобно пациентке Фрейда, – делать одно, а думать и иметь в виду совсем противоположное, скрывая это посредством изображения, фантазируя и обманывая себя и окружающих, так сказать, камуфлируя Оно и конфабулируя Эго.
Хотя, говоря о наделении образа смыслом, Гомбрих фактически говорит только о дополнительном смысле, о смысле дополнения содержания образа посредством его (образа) использования в изображении.
И совсем все становится понятным, когда Гомбрих обращается к практике создания и использования иеро глифических эмблем-импрез – продукта ничем не связанной фантазии, свободно и не скованно себя ведущей – «как на каникулах», по выражению Гомбриха. Здесь, по его мнению, крайне важен момент уместности, понятый буквально: не везде можно себе позволять игру и потому не везде можно себе позволять толкование (строго говоря, всякое изображение – даже самое конвенциональное – содержит в себе подобную до-миметическую структуру, что может создавать и дополнительный слой смысла). С формальной точки зрения импреза, эмблема и вся прочая геральдика-идеограмматика замечательна своей близостью к письменному знаку, почти словам, с которыми можно поступать довольно свободно, комбинируя их и манипулируя ими, воспроизводя, собственно говоря, способ обращения, свойственный отчасти письменному тексту, отчасти орнаменту. Это как раз и обеспечивает игровую свободу, в том числе и в способе подачи материала, в наличии интриги, интереса, в потребности во внимании, а главное – в потребности воздействия, вовлечения, в том числе и посредством загадки, тайны.
Вся эта визуальная риторика – общее место ренессансной эстетики, а также неоплатонической мистики, осведомленной о тайном языке Божественного.
Как полагается для всякой игры, здесь также важны правила и следование им – но по ничем не стесненной собственной воле. И где есть тайна, там есть и ритуалы тайнописи, сокрытия и обнаружения тайного языка и ключа доступа.
Но для Гомбриха всего важнее не этот мир – вполне автономный – универсальной символики, а опять же правила жанра, то есть способа подачи изображения серьезного, где игра может показаться неуместной. Кстати говоря, признаки жанра – именно по месту изображения, так что фактически предполагается по умолчанию семантика пространства, определяющая ни много ни мало как ценностные характеристики изображения, что связано с тем, что пространство мыслится не просто как смысловое поле, но и как жизненная среда.
В любом случае концовка текста Гомбриха звучит совсем по-дидактически и одновременно двусмысленно, когда он указывает на «методическое правило», согласно которому «интерпретация должна продвигаться постепенно, шаг за шагом». Спрашивается, зачем было создавать столько воображаемых врагов и вдобавок именовать их иконологами, если есть намерение пользоваться именно иконологическим методом? Или Гомбрих не в курсе, что именно постулат постепенного и многоэтапного следования за смыслом, а не просто многозначность смысла есть иконология?
Эмблемы историзма как символы фальсификации
Невольно и симптоматично выглядит и прощальное увещевание Гомбриха:
…мы обязаны всякий раз требовать от иконологов после каждого их полета к небесам возвращаться на твердую почву и отчетливо нам объяснять, реконструированная ими столь усердно программа определяется ли первичными источниками или просто работами их коллег-иконологов[269].
При всей полушутливой снисходительности миролюбиво-мягкого тона мы вынуждены констатировать в данном случае целую гирлянду концептуальных и эпистемологических импрез-гротесков: 1. Проблема не только первичных, но и любых других источников в случае изобразительного искусства не сводится к обнаружению независимого источника информации об изучаемом объекте, так как художественная природа этого объекта, то есть произведения искусства, предполагает первичность его самого, в том числе и в качестве источника; 2. Никакая исходная программа не заменит конечной цели и тем более структуры произведения (даже если конечная цель – следование первоначальной программе); 3. Требование непременного первичного источника и игнорирование историографии (опыта коллег) – не научно и выдает, по крайней мере, логику обыденного сознания и повседневного, но никак не научного опыта (Гомбрих выражается в данном случае наигранно нарочито – как профан или как имитатор такового); 4. Наконец, упоминание твердой почвы выглядит почти зловеще в контексте опыта совсем иных коллег, хтонически чувствительных к зову земли, крови и расы.
Характерный магически-материнский эстетизм звучит и в более ранних текстах того же антиклассициста Й. Стжиговского, обвинявшего, между прочим, «американцев» с их небоскребами в безвкусице, в забвении того факта, что
есть еще природа и есть еще земля, избавляться от которой безнаказанно нельзя ‹…› в полной нечувствительности к гармонии[270].
Так что вопрос обращен отчасти и к самому Гомбриху: в каком случае уместны эти квазинаучные игры с символами историзма и эмблемами объективизма? Где та грань, что отделяет эпистемологическое требование фальсификации научного знания от индивидуальной потребности в иронии и популярности, то есть фактически в доступности (именно это так претило, напомним, Гомбриху-студенту в том же Стжиговском)?
Для Гомбриха значение – это то и только то, что осознанно имеется в виду применительно к тому или иному предмету. Наличие такого осознанного значения, выраженного в виде высказывания, – единственное условие продолжения разговора об этом значении: обсуждать можно только высказанное. Остальное – в области не обязательно невыразимого, но просто невыраженного, а потому не ставшего предметом и условием последующих высказываний. Итак, единственный смысл «значения» для Гомбриха – это содержание сознания, причастного в той или иной мере и форме к созданию художественного изображения.
Кроме того, скрыто у Гомбриха имеется в виду и тот постулат, что говорить можно только о таком значении, которое – при соблюдении вышеприведенного момента – дополнительно зафиксировано не просто письменно, но документально. Предполагается, что только такое значение достаточно конвенционально и институционально, чтобы быть единственным содержанием разговора о значении, выступать единственно прямым содержанием сообщения, адресованного от одного историка другому. Это как заполненный формуляр: не сама единица хранения внутри архива, а карточка каталога, элемент описи. Это и в самом деле нельзя ни поменять, ни заменить, не нарушив само предназначение этих кластерных образований…
Методически не принимается в расчет весь спектр иных измерений содержания, начиная со значения самого акта наделения образа содержанием, его материи. Этот момент выступает у Гомбриха совершенно по-гештальтистски фоновым содержанием по умолчанию, то есть тем самым «жанром», или модусом, или традицией, или контекстом, который задает правило чтения, совпадающее с правилами письма.
И тогда на этом фоне в других контекстах, не совпадающих с практиками научной коммуникации, можно вырисовывать иные фигуры, например снижая или смещая текстуальный жанр до уровня не художественной литературы, а просто документалистики. Или даже низводя до уровня карикатуры, которой Гомбрих так усердно и так психоаналитично занимался в сотрудничестве с Крисом[271].
Идолы идеализма и фетиши материализма
У Митчелла в его «Иконологии»[272] можно обнаружить неподражаемую в своей остроте и точности идею выведения из области эстетической в область сатирыкарикатуры или даже документа и самой истории как средства сохранения репрезентации. И совершает подобный акт всякая идеалистическая теория, понимающая искусство как репрезентацию «высшей природы», которую следует защищать от посягательств повседневной реальности.
И в «настоящей», не популярной и облегченной, иконологии на самом деле заложена скрытая феноменологическая угроза в адрес идеализма, ибо в ней есть тот реализм, который заставляет иконолога стать частью иконологии. Об этом мы уже упоминали вначале, и об этом же говорит Митчелл, подразумевая под иконологией именно практику говорения относительно образа – в ответ на его голос-логос[273].
И следует признать, что, хотя Гомбрих и сопротивляется (не называя, впрочем, имен) именно иконологии Панофского с его потенциальным втягиванием интерпретатора в ситуацию «сущностного смысла» и превращением из субъекта в объект интерпретации, тем не менее он следует сценарию того Панофского, который сам отчасти поддался соблазну доступности, в англоязычной версии своей иконологии заменив «смысл» на «значение». Гомбрих просто завершает начатое Панофским: рационалистическую фальсификацию Варбурга. Быть может, поэтому Митчелл сравнивает пару Панофский и Гомбрих с Ф. де Соссюром и Н. Хомским – в своем роде, конечно.