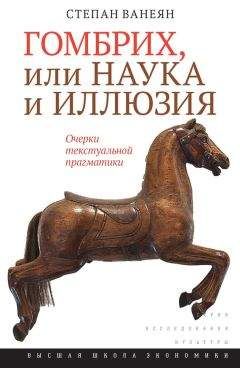Итак, налицо метафоризм научной коммуникации, построенной на правилах взаимного уважения (в первую очередь!) и взаимной ответственности перед лицом не столько окончательного нахождения истины, сколько свободного выбора ее подобий, то есть научных гипотез, смысл которых, вернее сказать, предназначение которых – оставлять свободу другим, свободу критики и отвержения – ради новых гипотез и предположений. Действительно, налицо чисто метафорическая деятельность и явно символический процесс, оправдание и даже обоснование которого – именно в превосходстве ценностного аспекта над познавательным, аксиологии – над гносеологией. Ученый призван создавать, творить гипотезы – именно ради их оценки, приятия и отвержения. Совсем как художник, создающий метафоры ценности, дабы эти ценности явить и, как полагается, подвергнуть оценке. Если же, напомним, для Гомбриха истинное произведение искусства – предмет не столько познания, сколько переживания, а главное, оно есть именно некоторое достижение, некий результат, полученный теми или иными средствами (момент исполнительский, перформативный, а значит, и артистический превосходит, хотя и подразумевает момент информативный), то понятно, сколь важно для него это подобие между научной и художественной деятельностью. Основание, напомним, этой эквивалентности – общий метафорический характер этих двух видов деятельности, этих двух форм «поведенческой активности» человека, если пользоваться языком XIX в.
От художественной ценности к ценности манипуляции
Здесь стоит обратиться еще к одному тексту Гомбриха, прямо направленному на обсуждение вопросов и возможностей символизации, прежде всего визуальной, ценностей морального (в том числе или в первую очередь), религиозного, сакрального свойства. Речь идет о «Визуальных метафорах ценности в искусстве» из «Размышлений верхом на деревянном коне»[316]. Ценностный аспект возникает, когда совершается та или иная манипуляция с символами: то есть ценность – в пользовании по тем или иным соображениям (это и есть метафоры ценности)[317].
Гомбрих приписывает Юнгу то понимание символа, которое последний приписывает Фрейду, – то есть как фиксированное метафорическое значение, код которого содержится в той или иной культурной традиции[318]. Но на самом деле аналитическая психология обращает внимание именно на жизненный контекст образа, который только в своей трансцендентной функции способен стать символом.
Примечательно желание Гомбриха иметь дело с фиксированными кодами символизма, причем с кодами вещей и качеств (понятий, идей и т. д.), но не с самой психикой в ее динамике (он избегает аналитического подхода к психике, что есть родовая черта всех разновидностей «глубинной психологии», с большей точностью именуемой психологией «динамической»).
Важно для Гомбриха то, что повседневная жизнь и в том числе речевая практика дают пример переноса визуальных качеств в языковые (феномен синестезийного эффекта) и вообще пример тождества трансфера и метафоры (для психоанализа это, мягко говоря, не совсем так). Но это отождествление позволяет иметь дело с многочисленными взаимоэквивалентными сущностями, которые все обладают ценностным измерением или содержанием: биологические ценности (основа всех практик), экономические (универсальная матрица всех оценок как чего-то имеющего или не имеющего цену), социальные ценности (коммуникация), диагностические ценности. Отдельно – вопрос о независимости ценностей эстетических, которые не кажутся столь необходимыми, без них как-то можно обойтись при столь великом числе критериев[319].
Но оценке – в первую очередь моральной (хорошо/плохо) – подвергается практика, поэтому искусство как практика – уже моральная ценность![320] Поэтому и наша возможность и склонность, например, к историческому взгляду на столь достойное занятие – род интроспекции и самооценки: интересоваться искусством, тем более заниматься им – занятие достойное и благородное![321] Это применимо и к самому Гомбриху: занятие наукой об искусстве подразумевает достойное поведение. Это есть именно установка суждения и потому – всегда критика (чисто исторического знания не получается!)[322]. Очень показательно отношение самого Гомбриха к истории орнамента (на примере отношения к орнаменту – вся история искусства и все искусство как таковое). Любое искусство – оформление жизни. И вся эта система вкусовых ценностей как ценностей жизненных фигурирует в виде конкретных метафор (чистота, ясность, честность), если брать их языковое (текстуальное) оформление[323].
В свою очередь, метафора чистоты – это всегда независимость от человека, из чего возникает и образ машины (и всей гигиены, равно как и всех социальных коннотаций, которые как раз и дают самые чистые формы моральных измерений искусства, так как это вопрос поведения). К этому примыкают и всевозможные эмоциональные реакции (эмоция – всегда реакция на желательное/нежелательное), а значит, все установки[324].
Но в эмоциях и в поведении вообще очень существенна подвижность, переменчивость (сама природа человека), когда крайне важен именно переход-перенос с себя на окружение (метафора самоочищения). Хорошее поведение – «процесс цивилизации» (Н. Элиас). Так что возможна экспрессия не только чего-то положительного, но и как форма отрицания, сопротивления, пересмотра, где очень важен и сдвиг от «естественной экспрессии», связанной с естественными способностями человека (в первую очередь восприятие как таковое), к экспрессии внутренних состояний, которые могут быть и негативными в широком смысле слова[325].
Так возникает и проблема физиогномики как выражения внутреннего вовне, да и вообще письма, графики как выражения телесного жеста – эквивалента говорения (переход от heart к head). В терминах постфрейдистского психоанализа (Гомбрих – явный его сторонник[326]) речь идет об эго-контроле, где важны именно механизмы защиты сознания (не всякая экспрессия приемлема, так как психика может открываться и становиться незащищенной, подвергаться опасности, например, внешнего вторжения). Но здоровая психика осознает, что эго-контроль – это не просто компромиссы, но и неизбежные жертвы (все формы адаптации к внешнему и внутреннему, то есть ко всему, что переживается не своим, чужим и т. д.). Отсюда и идея (например, Китса), что только правда (честность как искренность) и есть подлинная красота, так как подразумевает экстатику, самозабвение, преодоление эго-центризма, что выражается именно в правильном, приемлемом выражении своего и чужого[327].
Но как эта правда проникает в человека, даже и через поэзию, если нет прямой связи между чувством и его выражением, если и здесь – метафоры и символы?[328] Всегда важно различать экспрессию как опосредованную практику применения символов (до романтизма), когда обозначаются те или иные эмоции, и собственно романтическую установку на прямое их выражение. Но это уже будут не символы, а симптомы, и мы вынуждены в этой связи опять вспоминать сознание, которое предпочитает эмоции контролировать. Не будет ли художественная практика использования символов внутри стилистической традиции одной из форм контроля?[329]
В любом случае мы должны различать правду экспрессии (искренность/притворство самовыражения) и правду коммуникации (сознательное/бессознательное воздействие на зрителя или взаимодействие с собственным творчеством или творением)[330].
Кроме того, ни символы, ни тем более симптомы нельзя рассматривать изолированно ни друг от друга, ни от контекста или ситуации: и это тоже эквивалент моральных ценностей, когда устанавливаются и поддерживаются на должном уровне связь и отношения, когда они имеют определенное качество (например, взаимности). Но при этом, согласно Гомбриху, существует «синестезия ценностей», которая касается именно символов и их использования (но не симптомов, которые здоровое эго должно защищать от внешнего воздействия – впрочем, эта мысль требует детализированного комментария). В этой связи вводится в разговор важная идея: морально-этической оценке можно подвергать только практику использования символов, но никак не симптоматику (ср. в связи с иконологией и последним ее уровнем, где именно все серьезно и «понастоящему», чего Гомбрих, напомним, не может себе позволить в контексте науки как формы обращения со знанием, но не с сознанием, не с живой душой)[331].
В связи с этим понятно отношение Гомбриха к современному искусству как возможной форме защиты от навязчивой экспрессии (художники вынуждены порой прятаться за неизобразительными символами, спасаясь от требований вкуса и публики). Это уже не физиогномика, а патографика, что можно понять и отчасти принять, так как изобразительное (и не только) искусство не должно быть ничем иным, кроме как символической экспрессией. Такова его природа, с точки зрения Гомбриха, и пересекать его границы – значит отрицать искусство, сливая его с чем-то иным, пусть и с жизнью, растворяя его в ней.