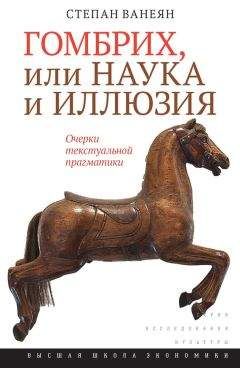В связи с этим понятно отношение Гомбриха к современному искусству как возможной форме защиты от навязчивой экспрессии (художники вынуждены порой прятаться за неизобразительными символами, спасаясь от требований вкуса и публики). Это уже не физиогномика, а патографика, что можно понять и отчасти принять, так как изобразительное (и не только) искусство не должно быть ничем иным, кроме как символической экспрессией. Такова его природа, с точки зрения Гомбриха, и пересекать его границы – значит отрицать искусство, сливая его с чем-то иным, пусть и с жизнью, растворяя его в ней.
Конечные формулировки Гомбриха – пример лучшей моралистики в области науки и искусства: все символы и симптомы скрывают главную метафору, которой является человек в своей сокровенной цельности и ценности, в личностном единстве, тогда как коды и шифры культуры могут и призваны меняться. Главное – не посягать на всецелую личность[332]. Видимо, перед нами сама суть эпистемологической веры Гомбриха, склонного и способного различать и разводить в стороны вещи условные и безусловные…
И тем более парадоксально, что при всем своем крайне нетерпимом тоне по отношению к Гомбриху Винд говорит совершенно о том же, указывая, что Фичино был в первую очередь поэтом, слух которого настроен на восприятие скорее такой же поэзии, звучащей речи, чем, например, музыки, что мешает ему быть вдохновителем другого поэта – но уже живописца[333].
Поэтика иконологического дискурса заставляет одного поэта-искусствоведа возмущать и тем самым тоже вдохновлять – от обратного – другого поэта и тоже искусствоведа. Программа Гомбриха, вдохновленного Поппером (для него это такой же отчасти мифологизированный Платон, какой был у Фичино), заставляет Винда фальсифицировать Гомбриха, но делает он это в дидактическом тоне, не называя своего «Платона», каковым для него мог быть Ч. Пирс (ему посвящена докторская монография Винда, написанная под руководством Э. Кассирера).
От поэтической теологии к ноэтической иконологии
Итак, как существует (вернее, существовала – текст не сохранился или существовал лишь в замысле) «Поэтическая теология» Пико делла Мирандолы, так налицо и «поэтическая иконология», где поэты-историки ревниво прислушиваются друг к другу и декламируют свои творения, не замечая порой, что у них есть и общий источник вдохновения – например, живопись, предполагающая и «оптическую теологию», если выражаться по созвучию, то есть поэтически.
При том что мы совершенно не касаемся такой темы, которая является для той же эпохи, в которую появилась первая «Иконология», ее несомненным практическим эквивалентом. Мы имеем в виду так называемую естественную магию с ее ответвлением, именуемым «оптической магией», в которой исток и корни всей последующей судьбы визуальной культуры Нового времени[334].
Но если позволить себе полную и совсем прозаическую серьезность, то следует признать, что такого рода достоверность знанию придает даже не жанр текста, а тип текстуальности. Это есть рассказ-повествование, доверенное иному положению дел, ставшее достоверным и ценностным, ибо его оценили как важное и доверили как нужное, им поделились, его уступили, не отступаясь от него, придерживаясь как важного, необходимого, неизбежного и неустранимого, касающегося самых глубин существования адресата и понуждающего его отвечать, вступать в общение, обретать общность и взаимность, подлинность свершившегося, принимать контингентность даже не в вынужденной солидарности, а в свободной симпатии. Хотя и не без иронии, а порой и не без горечи.
В любом случае на примере Винда видно, как важно различать оттенки ритуалов: ведь Гомбрих – это скорее ритуалы инициации, тогда как его оппонент – несомненно, мистагог иного обряда, связанного больше с очищением…
Гомбрих, Хофманн: наука и Аккерман как репрезентация ответственности и условности
В Англии я научился слегка втягивать щупальца.
Эрнст ГомбрихИмпульсы, исходящие от венской школы искусствознания, – так или иначе – расширили пространство опыта, именуемого «искусством», благодаря многочисленным актам «перехода границ», и тем самым соприкоснулись с немалым числом событий в искусстве нашего столетия, что оправдывает историков искусства и художников как защитников границ и их нарушителей.
Вернер ХофманнИсключительно на основании нашего собственного восприятия объектов мы не в состоянии ничто из наших ответных реакций на них обозначать как «объективные». Однако в процессе производства утверждений по поводу наших ответных реакций мы выделяем в качестве «объективных» те из них, относительно которых мы верим, что они соотносятся с опытом других людей, обеспечивая понимание наших установок-обстоятельств и имея дело с релевантной информацией.
Джеймс АккерманИстория искусства: практика извлечения знания
Итак, пролистывая наш лексикон идей, бывших в ходу у Гомбриха и не только у него, мы дошли до вещей уже совсем универсальных и фундаментальных, фактически начальных, первичных и потому архаических. И потому-то совсем не случайно нас обступили не только ассоциации с обрядами инициации, но и исконные символы начала и рождения (не обязательно героя – хотя бы эпистемы).
Так что вернемся ближе к началу, дабы убедиться, что всякого рода «введения» и «предисловия» – это сама суть научной и не только деятельности Гомбриха, который вводил в поле зрения, в оборот и в обиход науки всякого рода идеи, теории, мнения и положения, находясь всегда на границе, на пороге, у врат и на страже. Но в том-то и проблема, что он вовсе не один исполнитель этой жреческой или хотя бы левитской роли: компанию в этой инсценировке ему составляют многие и многие. Мы выбираем только тех, кто действовал почти синхронно. Это – Вернер Хофманн и Джеймс Аккерман.
Вспомним тексты из «Атлантической книги по искусству». Еще раз обратим внимание, что в историческом контексте перед нами в некотором роде все тот же «атлантический альянс», но с задачами защиты скорее гуманитарных и концептуальных ценностей, вернее сказать – их возобновления. Как это ни прискорбно, но руины тем и хороши, что обнажают порой фундамент… Подобные фундаментальные ценности историко-художественной теории и описывает Гомбрих в этих, подчеркнем, немецкоязычных заметках[335].
Начинает он, естественно, с дефиниций. И весь последующий и неизменный Гомбрих уже виден в определении того, что есть искусствознание: это практика использования искусства не для удовольствия, например, и не для воспитания, не для каких-либо иных почтенных целей, а для дела вполне конкретного – получения от него (искусства) знания, прежде всего исторического и культурного.
Под искусствознанием начиная с конца XIX века понимают всякое обхождение с искусством прошлого и настоящего, нацеленное на познание[336].
То есть искусствознание – это не просто знание того, что есть искусство, а знание того обстоятельства, что из искусства можно извлекать знание. Это на самом деле довольно радикальная философия, вернее сказать, идеология науки, ставящая ее (науку) в очень четкие и весьма узкие рамки, выход за пределы которых – выход за пределы науки как таковой, что не лишает сам выход значимости и значительности, а значит, и возможности или даже необходимости при известных обстоятельствах.
И уж тем более не лишает значения и смысла само искусство, а в чем-то даже и прибавляет ему того и другого. (Вспомним, с какой иронией отзывается Гомбрих о намерениях венских историков искусства рубежа веков придать истории искусства характер науки: именно доля ненаучности, возможность и способность не быть наукой спасает этот род интеллектуальной деятельности от роковых ошибок, главная из которых – превратиться в альтернативу своему предмету[337].)
Поэтому такого рода «асимметричная» научность истории искусства заключается в использовании произведения искусства как источника – в первую очередь исторического, который, однако, не существует без сопровождения источников более традиционных, а именно литературных (это и есть главный методологический завет Юлиуса фон Шлоссера – но в исполнении Гомбриха как его самого верного или самого последовательного ученика). Хотя и здесь Гомбрих проявляет известную и важную тонкость и точность мысли: литература – тоже искусство, только словесное, и ему вменяется в обязанность поддерживать искусство изобразительное.
Кроме того, в этом обстоятельстве заключена просто методологическая необходимость: использование одного искусства в качестве инструмента понимания (если не объяснения) другого снимает проблему разнородности (так называемой гетерономности) предмета и средства познания (мы видим глазами, а объяснять пытаемся разумом, что не может не вызвать сомнений и попыток найти посредника в лице или психологии, из чего получается психологизм, или языка, из чего возникает структурализм[338]).