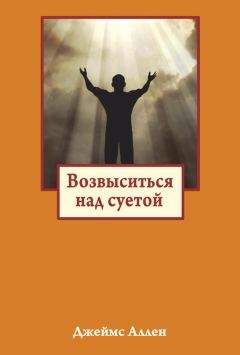После всего сказанного здесь, если спросят меня: хочу ли, чтобы Гоголь оставил навсегда прежние пути свои и шел исключительно по новому, который он проложил последнею книгою своею? скажу, не запинаясь: нет! я уверен, что между прежним Гоголем и нынешним может последовать и последует прекрасная сделка, полезная мировая. Он умерил и умирял в себе человека; теперь пусть умерит и умирит в себе автора. Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных или драматических, но чуждый этой исключительности, этого ожесточения, с которым он доныне преследовал пороки и смешные слабости людей, не оставляя нигде доброго слова на мир, нигде не видя ничего отрадного и одобрительного. Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного им, — это неверно. Писанное им не бесполезно, а, напротив, принесло свою пользу; но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Он первый "Мертвыми душами" дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и между тем мелко-придирчивой. А за ним, подбавляя за подлинником, бросились унижать, безобразить человека и общество, злословить их, доносить на них. Все лица, выводимые на сцену последователями его, подлежали на поверку или уголовному суду, или по крайней мере расправе съезжего дома. Особенно на эти последние лица был большой расход, потому что они были более по силам многих. Что французские повествователи ищут вдохновения более в судебной газете, нежели в общей истории человечества и в сердце человека, это хотя прискорбно, но, однако же, понятно. Французское общество потрясено было ужасными переворотами; оно прошло сквозь огонь и кровь. В литературе его неминуемо должны отзываться волнение и брожение, заброшенные в нее событиями и действительностью. Но на нас, благодаря бога! не были еще посланы жестокие уроки. Отчего же нашей литературе быть лихорадочной и судорожной? Можно сказать, что ее не корчат внутренние, истинно болезненные судороги, а она корчит судороги. Здоровая, она прикидывается больной. По природе своей, по способностям миролюбивая и даже довольно простодушная, она сама щиплет, царапает себя, чтобы иметь случай искосить глаза и рот, взъерошить волоса на дыбы и казаться сердитою и страшною. Все это смешно, но все это может быть и жалко в последствиях своих. Обращаться с словом нужно честно, сказал Гоголь. Можно прибавить: и любовно. По словам одного из святых наставников: "Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, все прикрывает, всему веру емлет, все уповает, все терпит". Не только в проповедях и духовных размышлениях, но и в вымыслах воображения, в романе, в драме, в сатире, слово может быть проникнуто, пропитано духом примирения и любовью. Этого слова, в каких объемах ни было бы оно — вольному воля! — ожидаем от Гоголя, и более чем когда-нибудь мы вправе ожидать от него.
У нас во имя Гоголя подняли вопрос, не только литературный, но едва ли не политический. Мы большие охотники до возбуждения вопросов, особенно там, где вопрошать нечего. Но так уже суждено. Мы неутомимые и неугомонные вопросители. На лбу нашем, в виде родимого пятна, выставлен вопросительный знак. Разумеется, на все эти вопросы каждый отвечает по-своему: с точки воззрения своего, сочувствий своих, мнений, предрассудков, и так далее. А кто, и этот кто многочислен, отвечает просто наобум, так, здорово живешь. Из всех этих ответов рождается ужасная бестолковщина и путаница. Мы и это любим. Кто видит в Гоголе либерала, а потом — отступника; кто какое-то загадочное лицо, которое трудно разгадать. Ларчик, кажется, проще раскрывается. Гоголь писатель с отменным и высоким дарованием, но он не во главе и не из числа тех писателей, которые пробуждают вопросы политические и социальные. Он сам не думал и не мечтал о таком положении: на это положение натолкнули его. Он великий живописец, живописец ярких красок, кисти смелой и свободной, но не глубоко проникающей в полотно. Мастерски и удачно схватывал он некоторые черты человеческой физиономии, но именно некоторые, а не все. У него более частные, отдельные лица; но всего человечества, всей человеческой природы нет. Он не философ, не моралист, как великие комики и великие повествователи Запада! Творения сих последних — школа для всех народов. Мудрые уроки их переживут много поколений. Гоголь более местный живописец, и живописец определенного времени. Многое в современной ему России вырвал он, так сказать, живьем. Основательное образование, которое дает школа, и образование, которое позднее дается жизнью, недостаточно были в нем развиты и выработаны. Оттого и встречаются у него неровность, противоречия, недостаток полноты и стройности. Внешние, благоприобретенные запасы его были довольно скудны и в совершенной несоразмерности с богатством, с стремлениями и, так сказать, неутолимою жаждою дарования его. Он это чувствовал, сознавал; он этим внутренне страдал, и страдание это делает честь ему. Была с ним еще беда. Друзья и поклонники задушили его лаврами, которыми закидали его; с другой стороны, недоброжелатели и противники чуть не забросали его каменьями. Это не пугало его, но смущало, а вероятно, и раздражало его. Он был натуры нервной, впечатлительной, легковосприимчивой. Он слушался Жуковского и Пушкина, но не хотел бы огорчить и Белинского и школу его, если можно назвать ее школою. Непризванные хвалители, непризванные противники не умели спокойно оценить дарование его по достоинству. Все это доказывает не богатство литературы нашей, а совершенную бедность нашей критики. Уровень литературы нашей, разумеется за некоторыми исключениями, так невысок, что новое явление, врасплох поражающее нас чем-то еще небывалым, необыкновенным, сбивает нас с толку: при нем не соберемся мы ни с мыслями, ни с духом. Этого не бывает с западными литературами. Там замечательные явления бывают чаще, уровень выше. Все более или менее успели присмотреться, научились и могут сравнивать. И там бывают ошибочные впечатления; но они случаются реже, скорее приводятся в ясность и выпрямляются. В путанице суждений о нем бедный Гоголь сам запутался. Он был самолюбив, скажем откровенно, был или бывал иногда несколько суетен; но кто же не имеет греха этого на совести, в большей или меньшей доле? Вместе с тем, при своей гордости, имел он качество, которое имеют не все: недоверие к себе и к таланту своему, по крайней мере в той степени, на которую хотел он возвысить дарование свое. Эта черта его трогательна и возбуждает особенное сочувствие к нему. Он и при успехах своих все еще был неудовлетворен; он все стремился к чему-то, по чем-то тосковал, искал идеального совершенства, не хорошо сознавая, в чем именно оно состоит. Если не слишком смело, позволю себе сказать, голова его, и после благополучных родов, все еще мучилась какими-то вымышленными и ожидаемыми им родами, которые не давались ему. Он чувствовал, что приятели слишком захвалили его, и хотел оправдать их непомерное хваление; хотел того и для себя, потому что внешнее восхваление, разумеется, кончилось тем, что немного отозвалось и в нем, во внутренних тайниках сердца его; хотел он оправдать себя и перед самим собою. В этой борьбе, в этих перемежающихся припадках самодовольствия гордости и смирения, доходящего до уныния, должно, по мнению моему, искать ключ ко многим странностям характера его, к литературным и другим ненормальностям, одним словом, правдивую повесть во многих отношениях печальной участи его и самой преждевременной и загадочной кончины. Кажется, мы уже намекали о некотором сходстве его с Ж.-Ж. Руссо, разумеется, не в могуществе и обширности таланта, но более с точки зрения психической. Смерть Гоголя, как и смерть Руссо, имеют также что-то общее: роковое, мрачное, неиэъясненное. И тот и другой были люди болезненные; подобная физическая немощь не могла не иметь влияния и на духовное настроение их. Руссо идеолог; в более тесном объеме был идеологом и Гоголь. Еще одно сравнение, более литературное и касающееся до авторства. И тот и другой, каждый в сфере своей, сильный боец против недугов общественных, язв человека и общества; тот и другой возмущаются всеми порочными явлениями, карают их беспощадно; но придется ли лечить эти недуги, научать, что должно предпринять, чтобы заменить их правильною гигиеною, ничем не возмутимым здоровьем, и тот и другой оказываются несостоятельными: они диагностики, а не целители, один в сфере политической, другой в сфере общежития. Тот и другой бывают иногда декламаторы. Посмотрите, например, в "Письмах к друзьям" все, что выводит Гоголь из перевода "Одиссеи" на русский язык Жуковским. Перевод, разумеется, литературное событие, но он возводит его в общественное, социальное, чуть не государственное. Он ожидает от него совершенного, целого переворота в русской жизни. Это ребячество. Такие ребячества встречаются и у Руссо. В знаменитом письме к Даламберу он сильно, красноречиво, но часто парадоксально и декламаторски восстает против устройства в Женеве постоянного театра; в театре видит он гибель Женевы, развращение и падение чистых ее республиканских нравов. Это все еще ничего; но он в том же письме предлагает заменить спектакли какими-то домашними посиделками, что выходит у него довольно смешно, а на деле вышло бы, вероятно, очень скучно.