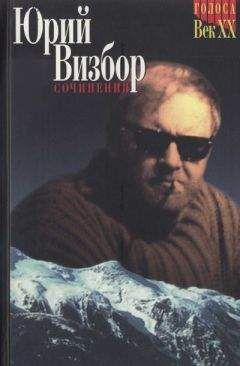Шесть плиток шоколада…
Профессор Ермаков дозвонился в то утро Калачу. Как это он умудрился дозвониться на испытательный аэродром, было непонятно. Однако за Калачом приехали на дежурной машине, через все гигантское бетонное поле аэродрома привезли к телефону. Ермаков попросил, чтобы Калач срочно подъехал в больницу. Калач сбросил с себя унты, наспех переоделся. «Ерунда какая-нибудь, — думал он, жал на газ, и „волга“ неслась по подмосковному шоссе, жалобно визжа на поворотах. — Просто какие-нибудь пустяки. Наверно, Клава чего-нибудь попросила такого… Или вспомнила, может быть, чего-нибудь срочное. Да и мало ли что?..» Он, испытатель, привыкший думать об обстоятельствах гораздо хуже, чем они есть, прятался за жалкие мыслишки, хотя и тон профессора, и его слова: «Михаил Петрович, вы очень нужны здесь», — не оставляли никаких сомнений в том, что что-то случилось…
Жена родила Михаилу Петровичу троих детей, но Калач чаще бывал на кладбище, хороня и вспоминая друзей, чем в яслях.
«Миша, — часто говорила ему жена, — ну посмотри, какой ты хороший человек! Как тебя любят ребята твои по работе, какой ты веселый! Ну почему ты такой хмурый с детьми? Ты не любишь детей? Зачем же мы тогда их троих нарожали?»
«Да нет, — отвечал Калач. — Клава, ты пойми, в голове у меня разная техника, я только закрою глаза — и вижу, как захожу на посадку на авторотации или еще какую-нибудь такую чушь. Ты понимаешь?»
«Я все понимаю, — говорила Клава, — и все ж дети…»
И все это была сущая правда, потому что, хоть Михаил Петрович любил своих детей, как и каждый отец, относился он к ним сухо. Подойдет, погладит по голове, наденет реглан — и на аэродром. Вот и все отношение. Дети его не знали, поэтому немного побаивались, жались к матери. Именно этого, в сущности, и добивался Калач. Он думал, что он погибнет, а Клаве жить дальше с детьми, и чем меньше они будут привязаны к отцу, тем легче переживут его смерть, тем меньше будут травмированы их маленькие души. Но шли годы. Калач с удивлением поднимал бокалы на новогодних вечерах, и все больше удивляла его мысль: почему же я не разбиваюсь? И каждый раз, когда отказывал двигатель на недоведенной машине, или маслом рвало емкости, или — сказать-то страшно — пожар на борту, везло Мише Калачу так же, как везло ему на фронте на «аэрокобре», а потом на Ла-5, на котором он и заработал Героя. Бывало, что и экипаж страдал, а левому пилоту ничего, ни царапины. Воздушное счастье. Воздушное счастье и опыт. Жизнь летчика-испытателя Михаила Петровича Калача была застрахована, у нотариуса лежало завещание. Без страха в сердце поднимал он в воздух новые машины, ежесекундно готовый к разным подлостям со стороны металла, горючего, масел, тросов, гидросистем, приборов, ежесекундно готовый к короткой, зверской борьбе с бездушным и совершенно никому не известным чудовищем, к которому он входил в клетку с одним парашютом.
Он был готов к смерти, но судьба распорядилась по-другому: уже три недели в Сокольниках, в больнице, умирала от рака его жена Клава, единственная женщина в его жизни, двадцать лет с которой прожито было, однако все как будто шел первый день. Она нигде никогда не работала, только сидела с детьми, никуда не выходила из дома, когда Миша где-нибудь летал далеко, ни разу в жизни не была на курорте, только с Мишей все да с детьми. Трое детей. Хлопот много. Когда ее увезли в больницу, Михаил Петрович как будто в первый раз увидел свою квартиру, всю увешанную моделями вертолетов. В гостиной висела небольшая фотография пожилого, подстриженного под бобрик, сухощавого человека, стоящего в траве возле открытой дверцы вертолета «Ирокез». Поперек фотографии было написано по-английски: «Мистер Калач, я вами восхищен! Шеф-пилот испытателей США Мэшман». На другой стене висел огромный портрет Гагарина. Снимал его сам Михаил Петрович в летний день на лесной поляне недалеко от дачи. На Гагарине была тенниска. В руках он держал ракетки для бадминтона…
Трое детей… Квартира была пуста. Жизнь была пуста… Он не знал, что сказать детям. Потом придумал. «Я сейчас», — сказал он и пошел в киоск, купил там шесть плиток шоколада и вернулся в дом. Но Серега уже спал, Васька гонял шайбу во дворе, а Света заперлась в комнате, сказала через дверь, что зубрит старославянский язык. Калач устало сел за стол, выложил шесть плиток шоколада «Аленка». «Аквариум купить, что ли?» — подумал он, решил, что аквариум заведет, а главное, надо поговорить с ребятами просто, по душам, не какую-нибудь мораль прочесть, как раньше, а просто рассказать им о чем-нибудь, о житейском. О чем с ними говорила мать? Да Бог его знает. Историй она особых не рассказывала. Нрав только у нее веселый был… Михаил Петрович позвал Светлану, она пришла в шелковом халате, села за стол, заплаканная. Вся она была папкина дочка — глаза бесстрашные, сильные губы, высокий лоб. Каштановый волос коричневым крылом закрывает щеку. «Уж не гуляет ли?» — подумал Калач, а вслух сказал:
— Доченька, я с тобой хочу поговорить кое о чем.
Светлана молчала, вопросительно глядя на отца. Калач откашлялся, ожидал какого-нибудь вопроса, но она ни о чем не спросила. Если бы был курцом — закурил бы сейчас, такой самый момент, чтобы не спеша достать папироску, размять ее, спички глазом поискать. А в это время и слова приходят нужные. Но после фронта Калач не курил, поэтому он бессмысленно переложил на другой конец стола шоколад и почему-то сказал:
— Ты знаешь, у нас скоро будет все по-другому.
— Как это? — спросила Светлана так ледяно, что Калач понял, что она подумала.
— А вот так, — сказал он. — У нас в Союзе винт фиксированный решили. Понимаешь, какая это революция?
Светлана молча глядела на отца.
— Ну, ты ж пойми, что скорость вертолетов увеличится до восьмисот — девятисот километров в час! Ты представь себе. Это без маршевых двигателей, только на нормальных винтах. К чему это приведет? Это приведет к тому, что все областные перевозки в скором времени полностью перейдут в руки вертолетного парка. За счет возросшей скорости увеличивается дальность. Мы вытесняем не только поршневые, но и реактивные и турбореактивные машины с пассажирских перевозок. Конечно, в Монреаль нам пока еще не летать, но Украина из Москвы, считай, уже наша, Урал тоже, не говоря, конечно, о Ленинграде и Мурманске. Представь себе, генеральный мне вчера сказал, что через полгода получу я эту машину с фиксированным винтом и дам ей, как говорят, путевку в жизнь. Ты понимаешь?
Светлана с крепко сжатыми губами молча смотрела на отца.
— Чего ты молчишь? — спросил Калач.
— Это все, что ты хотел сообщить мне?
— А что?
— Маму в больницу увезли, а ты мне про вертолеты рассказываешь.
— Так вот поэтому я и хотел с тобой поговорить.
— Про вертолеты?
Действительно, нехорошо как-то вышло. Калач встал, дошел до двери, обернулся.
— Ну ладно, иди к себе. Не вышло у нас разговора. Отцы и дети, как говорится. У меня свои проблемы, у тебя свои. Чуваки! — со злостью добавил он, ушел из дома, совсем разозлился, потому что несправедливо обидел дочку, а несправедливости он терпеть не мог.
Облетел пол-Москвы на своей «волге», отвел душу на двух постовых, примчался домой откуда-то из-под Сходни извиняться, вернее, отношения налаживать — спит дочь, заперлась, на стук сказала: «Я сплю». Калач сказал: «Спокойной ночи», до трех часов проворочался и пропрыгал на пустой тахте, в час ночи поднял с постели телефонным звонком Бомбовоза насчет завтрашнего полета, раза три звонил в больницу, Клава спала, сообщали сестры. В четыре Калач заснул, но в полпятого позвонил товарищ из Тушина, шла там большая военно-воздушная встреча: один человек вернулся из Перу, второй с полюса Южного, отмечать было чего. Калач накричал в трубку, но тут же пожалел, что не поехал, потому что не спать уже было ему, ночь продолжалась страшная, пустая, без жены. В полседьмого он разбудил всех, Светке сказал: «Хоть отцы и дети, однако Серегу покормишь и в сад сведешь!» Светка сказала: «Извини, па!» — «Ладно», — махнул рукой Калач, сгреб в охапку Ваську и повез его на аэродром, на полеты. Он оставался один с детьми. Временно, конечно, пока жена не поправится. Он не имел права разбиваться.
Мы с вами остановились на язве
Клаву лечил профессор Ермаков. При первой встрече он не понравился Калачу, во всяком случае, в нем ничего не было ни профессорского, ни медицинского. И говорил он очень просто, без всяких там «батенька мой» или «голубчик», как почему-то ждал Калач. Мало того, он — это уже было ни к селу ни к городу — был необычайно похож на диспетчера Македоныча с аэропорта Киренск, который известен как неисправимый филателист, чем сильно мешал работе местной и вообще всей восточной почты. При первой встрече Ермаков сказал Калачу:
— Прошу вас в совершенно категорическом порядке скрыть от вашей супруги, что у нее рак. Иной человек может просто умереть в два дня от одного сознания, что он болен раком, а опухолишка может быть пустяковая и вполне поддающаяся лечению. Скажите ей, что и я вам сообщил, что у нее язва желудка. От язвы тоже, кстати, умирают, и хорошего в ней, уверяю вас, нет ничего, но почему-то больные считают, что раз язва, то все в порядке. Значит, мы с вами остановимся на язве.