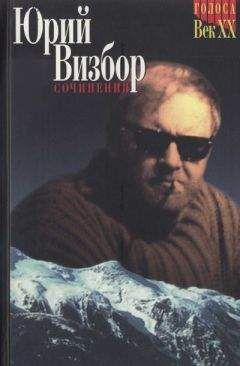Мы с вами остановились на язве
Клаву лечил профессор Ермаков. При первой встрече он не понравился Калачу, во всяком случае, в нем ничего не было ни профессорского, ни медицинского. И говорил он очень просто, без всяких там «батенька мой» или «голубчик», как почему-то ждал Калач. Мало того, он — это уже было ни к селу ни к городу — был необычайно похож на диспетчера Македоныча с аэропорта Киренск, который известен как неисправимый филателист, чем сильно мешал работе местной и вообще всей восточной почты. При первой встрече Ермаков сказал Калачу:
— Прошу вас в совершенно категорическом порядке скрыть от вашей супруги, что у нее рак. Иной человек может просто умереть в два дня от одного сознания, что он болен раком, а опухолишка может быть пустяковая и вполне поддающаяся лечению. Скажите ей, что и я вам сообщил, что у нее язва желудка. От язвы тоже, кстати, умирают, и хорошего в ней, уверяю вас, нет ничего, но почему-то больные считают, что раз язва, то все в порядке. Значит, мы с вами остановимся на язве.
В кабинете у Ермакова был какой-то переполох, поэтому говорили они обо всех делах, стоя у коридорного окна. Профессор беспрерывно курил грубые сигареты «Дымок», покашливал, беспокойно оглядывался по сторонам, словно боялся кого-то, словно он был не профессор, не специалист с мировой известностью, пробиться-то к которому на прием не так-то просто, а никому не известный шарлатан, пытающийся продать проект вечного двигателя в патентном бюро. Несколько раз к Ермакову подходили какие-то люди, ни слова не говорили с ним, только с вызывающим видом стояли рядом, всем своим поведением показывая, что у них самих важнейшие и неотложнейшие дела, а Ермаков тратит тут время по пустякам с каким-то типом в потертой кожаной куртке, скорее всего, шофером.
— Понимаете, — говорил профессор, — если бы вы читали самую-рассамую популярную литературу по интересующему вас вопросу, хотя бы реферативные журналы по онкологии, вы сами в этом случае четко представили бы себе трудность диагностирования и весьма малую степень достоверности при прогнозировании заболевания. Это, конечно, я говорю о случаях, когда мы не вмешиваемся хирургически. Вот кто вы по профессии? — неожиданно спросил он.
— Я летчик-испытатель, — сказал Калач.
— Летчик-испытатель? — недоверчиво переспросил Ермаков. — Все сейчас либо атомные физики, либо летчики-испытатели.
И Ермаков, густо закашлявшись, засмеялся, поглядывая на Калача кабаньим глазом из-под густых седеющих бровей.
— Ну а, предположим, я был бы ассенизатор, — сказал грубо Калач. — Что из этого?
— Ровным счетом ничего, — сказал откашлявшийся Ермаков. — У нас все профессии почетны. Просто в нашем отделении важна не только личность самого больного, но и личности тех, кто будет к больному приезжать.
— Понятно, — сказал Калач.
— Не сердитесь. Кто вы действительно по профессии?
— Летчик-испытатель.
— Ну, вы, наверное, сами не летаете? Ну, что вы там делаете? Заправляете самолеты бензином? Может, вы чините моторы?
— Вы что здесь дурака со мной валяете? — мрачно сказал Калач. — Я что вам — школьник? У меня жена лежит через комнату отсюда, и вы знаете почему, а вы мне здесь всякую ерунду говорите!
— Ну, зачем вы так серчаете? — обиженно сказал Ермаков. — У меня ж ведь нет ни секунды времени, а мы с вами будем переругиваться. Это негоже. Хорошо, предположим, вы летчик-испытатель. Вы даже будете другом Гагарина. Не в этом дело. Просто я стремлюсь узнать вашу профессию точно не из праздного любопытства, извините, а потому, что если ваша профессия связана с каждодневными нервными нагрузками, с интригами, с внутренней борьбой группировок внутри вашего… учреждения и поэтому вы привыкли обращаться с женой резко, волево, то прошу вас этот тон мгновенно прекратить. Полнейшее терпение и внимание. Я на первое место ставлю терпение, потому что больные наши… в подобном… положении весьма необъективно судят о проявлениях, так сказать, внешнего мира, часто несправедливы и подозрительны. Поэтому прежде всего вы всё должны терпеть, ни в коем случае не оправдываться по логическому пути, то есть не доказывать своей супруге, что она не права по тем-то и тем-то объективным причинам. То есть проявлять ласку, ласку и внимание. Потому что больная не должна беспокоиться о доме, эти мысли не должны ее волновать.
— Они ее никогда не волновали, — сказал Калач.
— Это было бы прекрасно, — неопределенно сказал Ермаков.
— Вы все мне не верите, — усмехнулся Калач, — чего это вы мне не верите?
— Потому что, дорогой товарищ…
— Калач, — сказал Калач.
— …товарищ Калач, практикую я не первый десяток лет. И людей столько повидал, что трудно сосчитать.
В это время к профессору подскочили две какие-то медсестры, оттолкнули Калача и стали в два голоса тараторить:
— Борис Павлович, а она говорит, что она сама не писала заявления об уходе! Это все вымысел! Загоруйко ее заставил написать это заявление!
— Как это заставил?! — возмутился Ермаков. — Как это заставил? Меня ведь никто не заставит написать заявление своей рукой, пока я сам этого не сделаю!
— А он ее заставил!
Они обступили профессора, тянули его за руки куда-то, он слабо сопротивлялся, виновато оборачиваясь к Калачу.
— Ну, хорошо, хорошо, я сейчас сам приду, — сказал он, освобождаясь от медсестер. — Идите, я сейчас приду.
Он подошел к Калачу. Медсестры угрюмо ждали в двух шагах.
— Приезжайте почаще, — сказал Ермаков. — Хотя бы два раза в неделю.
— Я здесь буду бывать каждый день, — сказал Калач.
— И все-таки кто вы по профессии?
— Летчик-испытатель.
— Да, — печально сказал Ермаков, пожимая руку Калачу, — упорный вы парень.
Он пошел к двум сестрам, которые тотчас его взяли в оборот и почти силком повели в кабинет, откуда доносились громкие голоса спорящих.
На следующий день после полетов Калач снова приехал в больницу и, хоть не приемные были часы, с боем прорвался на третий этаж, посидел у Клавы, написала она ему на бумажке список дел, какие по дому надо сделать, что купить, была весела, приветлива, но по-прежнему худела и никакой еды не принимала. На работе узнали о случившемся, Рассадин предложил освободить его от полетов, но Калач воспротивился этому, потому что знал: не будет работы — будет еще хуже. По вечерам он жарил картошку на сале, чтобы утром только на газок поставить, времени не теряя. Света постирывала и на него, и на ребят, ходила за Серегой, он ее несколько раз спросонья уже называл мамой. Только Васька совсем отбился от рук, приносил в дом то порох, то мощные рогатки обнаруживались в его портфеле, то приводил его за ухо сосед. И двойку в табеле пытался счистить бритвой и вывести хлором, на чем был пойман математичкой, и по сему поводу провел с родителем превеселый вечер.
— Вы знаете тетю Дашу? — спросил профессор, едва Калач вошел в его кабинет.
— Вроде знаю. Это… дежурная сестра.
— Зачем вы дали жене столько денег?
— Она просила.
— Ну зачем?
— Откуда я знаю? Я никогда не лежал в больнице. Она попросила, я принес.
— В общем, ваша жена дала тете Даше тридцать рублей, чтобы та ночью выкрала ее историю болезни и принесла ей. Вот видите, какая сложилась ситуация!
Калач привалился к стене.
— Ну…
Ермаков большой красной рукой смял пустую пачку «Дымка». Достал новую пачку.
— Во Франции за три года привык к сигаретам «Житан». Горлодер редкий. Наше ничего не может сравниться, разве что «Дымок».
— И она все узнала? — выдавил из себя Калач.
— Нет, Михаил Петрович, она не узнала. Но хочет узнать.
Зазвонил телефон, Ермаков взял трубку.
— Да вы садитесь, — сказал он Калачу. — Я вас слушаю, — сказал уже в трубку.
Оттуда ему что-то долго говорили, Ермаков тер лоб, хмурился, перекладывал трубку из руки в руку, вставал, садился и в конце концов произнес только одно слово:
— Да! Удивляюсь, — сказал он Калачу, положив трубку, — какой потрясающий талант есть у некоторых людей, особенно у женщин. Пустяковенькое дело, а слов! Ну что будем делать? Я вызвал вас, Михаил Петрович, посоветоваться. Наверно, надо вам к жене сейчас сходить и как-то этот неприятный момент ликвидировать. Только ума не приложу — как. Ну, в общем, вы к ней подойдите…
— Борис Павлович, — сказал Калач, — а где у вас хранятся эти истории болезней?
— А что? — вдруг с подозрением спросил Ермаков.
— Мысль у меня такая: врать я своей жене никогда не врал, даю вам слово. Двадцать лет прожили, ни разу ее не обманывал. Она, конечно, сразу поймет, что вру, а раз вру, то… вывод нетрудно сделать. Может, действительно дать ей эту историю болезни?