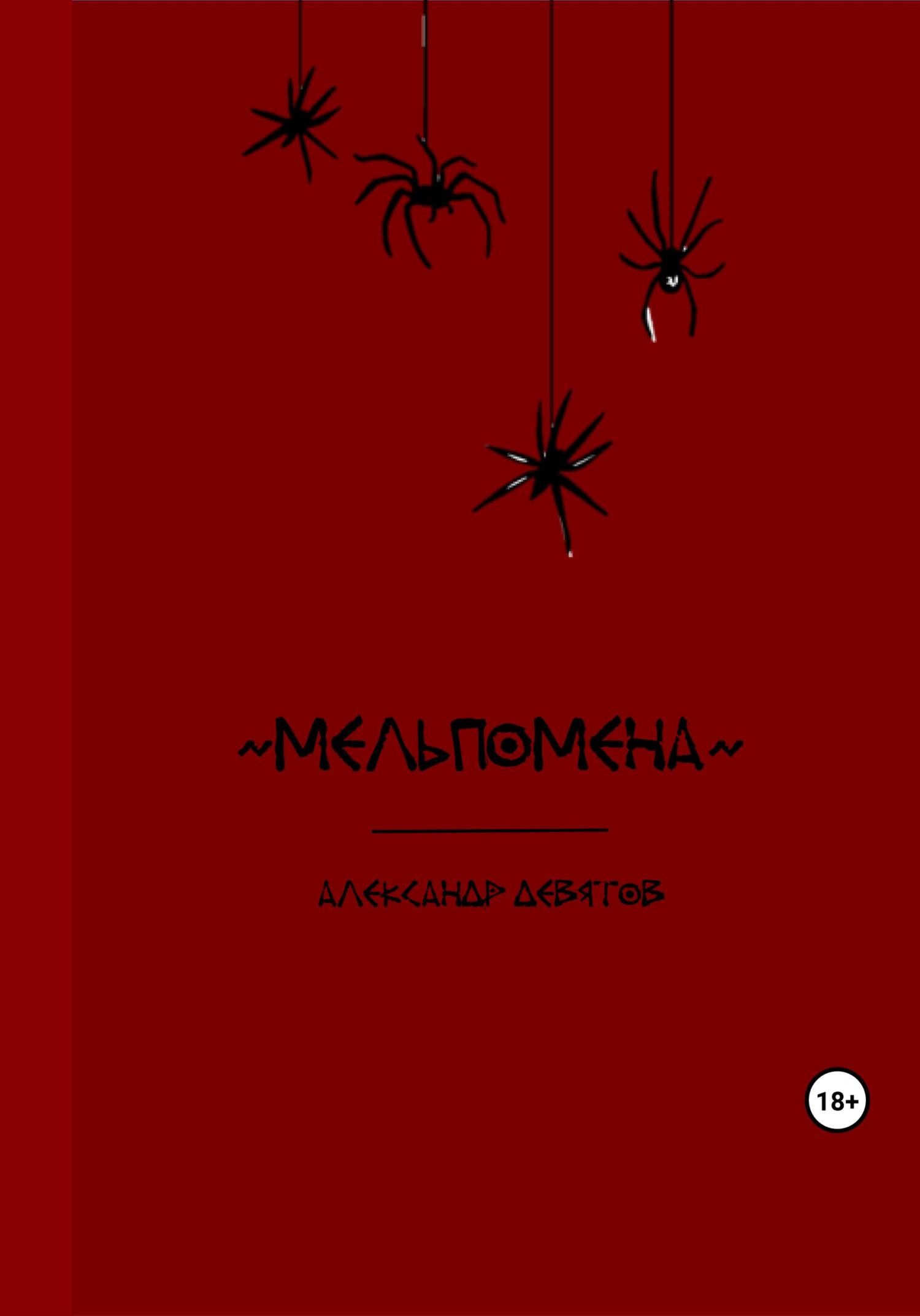стойла увели двенадцать лошадей, но признавать свою неправоту он не стал – гордость не позволяла. Филипп тогда долго смеялся и сейчас, находясь посреди цыганской общины и припоминая тот случай, искренне улыбался. Тем не менее, Надья была не столь вызывающей, как те цыгане, с которыми приходилось контактировать Лавуану в городе. Была в ней какая-то скромность. Пусть не в количестве украшений, коих было более чем предостаточно, а руки и вовсе ломились от суммарного веса колец, но в поведении, что уже резко выделяло ее из толпы соплеменников. К тому же, девушка почти не разговаривала с французом, отделываясь общими фразами, и не придавая словам никакой конкретики.
Тем не менее, спустя неделю походов по лагерю, Филиппу удалось-таки разговорить молчаливую спутницу. Оказалось, что цирк не всегда был цирком, а стал таковым только после появления Аиды. До того момента, это был обычный, можно даже сказать, очередной, цыганский табор, промышлявший ровно тем же, чем обычно промышляют цыгане. Но алжирка, своим суровым нравом и твердой рукой, быстро изменила концепцию убыточного предприятия на разношерстный цирк. Здесь место нашлось всем, в том числе и цыганам, которые теперь не обкрадывали зевак, а гадали, например, на таро или показывали свои фокусы, создавая тем самым, самобытное и весьма колоритное представление. Не все в таборе поддержали свежий взгляд на свой быт, так что большая часть цыган, все же покинула свою привычную обитель. Сама Надья, как раз специализировалась на гадании и, когда цирк принимал гостей, оставляла Лавуана на попечительство самому себе, что несказанно радовало француза. Свободой он поначалу пользовался: ходил и докучал всем своим присутствием. К Филиппу все относились с великой осторожностью, в чем писатель, не без оснований, винил Аиду, наверняка разболтавшую всем предысторию появления здесь такого лишнего во всех смыслах человека, и рассказав свое виденье ситуации с убиенной Мелисой.
Разговаривать с Филиппом стали лишь пару человек. Первым, помимо Надьи, у которой, собственно, и выбора то никакого не было, разговор с героем завел Даниэль. В своей голове Лавуан именовал его не иначе как «обезьяна», что было недалеко от истины. В обычной ситуации разговора бы и не было вовсе – Филипп подобных персонажей сторонился и предпочитал наблюдать за ними издалека. Но сейчас, за неимением альтернатив в общении, убедив себя в том, что настоящую подлинную историю такого человека можно узнать лишь при тесном контакте с оным, он все же разговаривал, а иногда даже был инициатором разговора.
– Я таким родился, знаете ли, – Даниэль отвечал на неудобный и грубый вопрос о своей внешности с такой легкостью, что сразу можно было сказать – ему его задают также часто, как спрашивают имя. – Представляете, вылез из матери таким вот волосатым, – он засучил рукава рубашки, демонстрируя длинные волосатые руки. – Мать сильно испугалась, говорила, что это совершенно ненормально. Отец и вовсе ушел, заявив, что мать видно с обезьяной ему изменила, – сейчас Даниэль смеялся, но в глазах молодого человека Лавуан отчетливо видел боль, которую раньше испытывал рассказчик. – Да уж… Мать с тех пор обозлилась и на меня, и на мир. Вот так вот оно бывает, Филипп. Рождаешься каким не хочешь, а потом живешь жизнь, принимая себя таковым. Зато я теперь могу легко лазать по веревкам разным, – заключил с широкой улыбкой Даниэль. – Чем не навык?
Лазал он и вправду хорошо. Одним из ключевых представлений цирка был как раз-таки номер Даниэля, где он, подобно дикому зверю, прыгал под куполом шатра под громкие аплодисменты зрителей. Народная любовь, которую молодой человек быстро снискал здесь, положительно сказалась на его самооценке и производила неизгладимое впечатление на Филиппа. Такой талант мог быть запросто уничтожен сворой глупых собак, не готовых принимать бедного Даниэля. Пусть он и выглядит как животное, но истинными животными являются люди, не способные принять его инаковость, ибо именно они исходят из животного стадного чувства. Их страх лишь плод первобытного начала и ничто иное. Этот юноша в теле зверя обличает всех пустоголовых глупцов лучше, чем я своими пьесами. Какая досада.
Во многом из-за истории Даниэля, Лавуан продолжил писать свою пьесу. Мужество, с которым молодой француз встречал невзгоды на протяжении всей жизни, воодушевляла писателя на новые свершения. Параллельно шли размышления на тему стоицизма как такового, его практического применения в современной жизни. Сама философия нашла свое отражение и в труде, над которым корпел Филипп: он добавил характеру главной героини черты истинного стоика, уподобив ее Марку Аврелию. По мнению Лавуана, это делало героиню куда более живой, менее картонной и скучной, к тому же это прибавило бы хороших отзывов у искушенной публики, пусть пьеса писалась и не для них вовсе. Порой Филипп не мог отказать себе в удовольствии поумничать, добавляя в текст своих работ вещи куда более сложные, нежели сама тематика заявленного произведения. Гобер бы все это вырезал, сославшись на длину пьесы. Благо сейчас директор не имел никакой власти над писателем, и последний мог творить со своим трудом что душе угодно.
За процессом написания книги пристально наблюдала Надья. Порой она лезла буквально через плечо Филиппа, чтобы посмотреть, что же такого там написал француз. В порыве вдохновения Лавуан не замечал назойливой девушки, смиренно продолжая работать. Лишь когда силы совсем покидали героя, и он падал на кровать, дабы набраться сил, двое людей, деливших уже не первую неделю скромный шатер, разговаривали на отвлеченные темы.
– Хотите я Вам погадаю? – спросила в один из вечеров девушка.
– Неужели тебе не надоедает гадать? – недоумевал Филипп. Несмотря на всю свою суеверность, Лавуан никогда не верил в расклады карт, считая это развлечением для необразованной черни, и недолюбливая самих гадалок, или, как он их сам называл, шарлатанок, за их тягу к наживе на простых, недалеких людях. – Уверен, твои карты ничего интересного не расскажут.
– Почему же? Вот про Вас мне все ясно, например.
– Это отчего же?
– Делала расклад на то, кто Вы такой. Вы же не думаете, что я стану делить кров с незнакомцем? – хихикнула девушка.
– Можно просто спросить, – Филипп уткнулся носом в подушку.
– Нет, – замотала головой Надья. – Люди постоянно врут, в отличие от карт. Спроси я Вас про самого себя, Вы бы солгали, но не потому, что может быть этого бы хотели нарочно, хотя быть может оно и так бы обернулось, а потому как люди самим себе врут чаще, чем окружающим.
С этим Филипп был согласен. Никому в своей жизни он не лгал столько, сколько самому себе. Постоянные убеждения самого себя в чем бы то ни