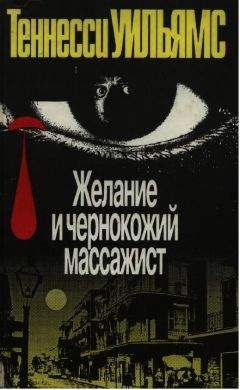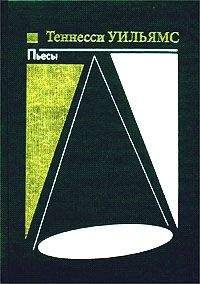Проповеди Долговязого Татуайлера были на редкость долгими и нудными. Его жена сидела в первом ряду и, когда прихожане начинали засыпать, энергично махала пальмовой ветвью — чтобы дать ему знать. Но не всегда легко удавалось завладеть его вниманием, и тогда дочь Альма — чтобы хоть как-то отвлечь его от проповеди, подключалась с религиозным гимном. Альма играла на маленьком органчике, примитивном инструменте. Воздух в его меха подавал старый негр, сидевший в душной комнатке за стеной. Однажды негр уснул, и его так и не смогли растолкать. Жена священника нервно махала ветвью до тех пор, пока этот веер не рассыпался, но орган не играл, а потому Долговязый Татуайлер все говорил и говорил — больше двух часов. В этот летний день было далеко не прохладно, стены церкви — дубовые, и прихожане чувствовали себя как на сковородке.
Наконец Альма, потеряв надежду разбудить негра, подбежала к отцу. «Папа!» — произнесла она. Но старик даже не взглянул на нее. «Папа!» — повторила она еще раз, но он продолжал проповедь. Прихожане уже вовсю обменивались недоуменными взглядами и переговаривались. Одна полная старая дама, видимо, упала в обморок — двое стали ее обмахивать и дали понюхать какую-то жидкость. Альма с матерью испуганно переглянулись. Мать уже была готова сорваться с места, но Альма взглядом остановила ее. Она взяла сборник церковных гимнов и с такой силой ударила им по скамье, что поднялся столб пыли, а книга разлетелась. Священник остановился и удивленно посмотрел на Альму.
— Папа, сейчас пятнадцать минут первого, Генри заснул, а людям пора обедать, поэтому, ради Бога, заканчивай.
У Альмы была репутация тихой и скромной девушки, так что поступок этот произвел сенсацию во всей округе — ведь проповеди Татуайлера пользовались недоброй славой на многие мили. Альма, очевидно, радовалась тому вниманию, которое уделялось ей в последующие несколько месяцев. Это произвело на нее впечатление. Теперь она уже была не совсем той робкой девушкой, как прежде. Быть дочерью священника — не очень большое удовольствие. Молодые люди обычно обходили их дом стороной, потому что стоило им около него появиться, как они становились потенциальными объектами нападок Татуайлера. Юноша не имел никакого шанса поговорить с Альмой ни на крыльце дома, ни в его гостиной, если старик находился где-то рядом. Он был одержим мыслью, что Альма может пристраститься к курению, а курение — стоило только заняться им — первый, но необратимый, по его мнению, шаг к погибели.
— Если Альма будет курить, — говорил он жене, — я осужу ее с церковной кафедры, и пусть она тогда уходит из дома.
Каждый раз, когда он это повторял, мать Альмы начинала плакать, и ей становилось плохо, ибо была уверена, что каждая девушка, которую выгоняют из дома, сразу же попадает в «увеселительное заведение». Или — или — третьего не дано.
Альме уже около тридцати, и она все еще не замужем. Тогда же, через шесть месяцев после эпизода в церкви, спокойствию в доме священника пришел конец. Альма стала курить на чердаке, и мать об этом знала. В последние годы миссис Татуайлер понемногу седела, но после того, что она узнала, ее волосы побелели буквально за одну ночь. Конечно, она скрывала поведение дочери от мужа и даже не позволяла себе повысить на нее голос — ведь он мог услышать. Все, что она могла сделать, это оклеить дверь на чердак газетами — чтобы через щели не проникал дым; остановить Альму было уже невозможно; она сама признавалась, что курение захватило ее: сначала она курила два раза в день, а дальше — больше. Несколько раз старик возмущался, что в доме пахнет табаком, но он и представить не мог, что его дочь осмелится курить. Миссис Татуайлер и Альма чувствовали, что рано или поздно он узнает; вопрос состоял в том — придавала ли этому значение Альма. Однажды она спустилась вниз с сигаретой в зубах, и мать едва успела у нее ее вырвать, прежде чем увидел отец. Миссис Татуайлер стало дурно, но Альма даже не обратила на это внимание. Она вышла из дома, закурила сигарету и направилась в аптеку.
В скором времени должно было произойти неизбежное: кто-нибудь из соседей, увидев Альму на улице с сигаретой в зубах, — а в таком виде она теперь появлялась весьма регулярно, — обязательно рассказал бы священнику. Особенно старухи — они только этого и ждали. Видели, как в аптеке «Белая звезда» она заводила разговоры с продавцом, пила кока-колу, а между глотками затягивалась; точно так же, как те самые пресловутые школьницы, — легенды об их поведении передавались из поколения в поколение. Поэтому неудивительно, что однажды священник вошел к жене в спальню со словами:
— Мне сказали, что Альма курит.
Он произнес это притворно-спокойным тоном, и жена почувствовала, что падать в обморок еще рано. На это ее ума хватило, но как исправить положение — она не знала. И потому просто ответила:
— Да, но не знаю, что с ней делать. Это правда.
— Ты помнишь, что я сказал? — добавил муж. — Будет курить — пусть убирается!
— Ты хочешь, чтобы она попала в «увеселительное заведение»? — изумилась жена.
— Хочет — пусть идет, — священник был неумолим. — Но прежде получит то, что всю жизнь будет помнить.
Он ждал, пока, выпив в аптеке «Белая звезда» кока-колу и выкурив сигарету, Альма вернется домой. Как только она вошла, он отвесил ей такую оплеуху, что она до крови прикусила губу. Но Альма не смутилась и ответила отцу тем же. В аптеке она купила какой-то флакончик, и пока Татуайлер приходил в себя, поднялась с этим таинственным флакончиком, завернутым в коричневую бумагу, к себе в комнату. А когда снова спустилась, они увидели, что она обесцветила волосы перекисью водорода и напомадила губы. Мать вскрикнула и упала в обморок, потому что теперь было совершенно очевидно, куда собирается ее дочь. Непреклонность священника немедленно исчезла: он ухватился за руку Альмы и стал ее умолять не уходить. Но Альма перед самым его носом закурила и твердо сказала:
— Слушай, с этого дня я буду делать то, что считаю нужным, и не желаю, чтобы ты вмешивался!
Прежде чем окончился разговор, мать пришла в себя — это был ее самый глубокий обморок, но никто даже не попытался поднять ее с пола. «Альма, — позвала она слабым голосом. — Альма!» Потом попыталась позвать мужа, однако никто не обратил на нее внимания; поэтому ей пришлось встать самой и принять участие в разговоре.
— Альма, — сказала она, — дождись, когда твои волосы вновь потемнеют. С такими волосами из дома ты не выйдешь.
— Это ты так считаешь, — ответила Альма.
Она затянулась и, выпустив дым из ноздрей, вышла через дверь с бамбуковой занавеской; продефилировала по садовой дорожке и направилась в аптеку «Белая звезда», заказала там кока-колу и стала непринужденно болтать с продавцом. Его звали Хлам, и никто не знал, фамилия это или прозвище. Именно он и посоветовал Альме стать блондинкой. Хлам был моложе ее лет на десять, но женщин у него было больше, чем прыщей на лице. Можно было только удивляться, с какой быстротой Альма вошла в круг пассий Хлама. Вряд ли кто осмелился бы назвать эту блондинку темной лошадкой — теперь это была породистая беговая лошадь, преуспевшая на избранном поприще. В течение двух недель после того как она окрасилась, Альма прекрасно поладила с Хламом, ибо она знала, что на Франт-стрит есть немало «веселеньких местечек» помимо «увеселительных заведений», и Хлам тоже это знал. Кроме того, он не был единственным обладателем ее сердца. Были и другие претенденты — Альма могла выбирать. Теперь она постоянно отсутствовала по вечерам; украла ключи от отцовского «форда» и зачастила в соседние города — Лейкуотер, Сансет, Лайонс. На шоссе она подбирала мужчин, кутила с ними, объезжая все злачные места, и никогда не являлась домой раньше трех-четырех утра. Трудно было себе представить, как может человек выдержать такую нагрузку, но все объяснялось тем, что Альма вобрала в себя огромную энергию, которую передали ей поколения истинных верующих. Эту энергию можно было бы использовать по-разному, но всегда с сенсационным успехом. Альма пошла своим путем — и теперь уже остановить ее не могло ничто.
Дома дела шли неописуемо плохо. Говорили, что у матери случился инсульт и отец все время проводит в молитвах о ее здоровье. В этих слухах была доля истины. Что касается Альмы, то прихожане старшего поколения, знавшие о пристрастиях дочери, особого сочувствия к ней не проявляли. Было, правда, предпринято несколько шагов, чтобы умерить ее пыл; отец, например, как-то раз, когда она явилась домой совсем пьяной и завалилась на диване, забрал у нее ключи от машины, но у Альмы оказались запасные. Однажды вечером он запер гараж, но Альма влезла в окно, села за руль и, протаранив дверь, все равно уехала.
— Она помешалась, — причитала мать. — А все из-за перекиси — пропитала голову и отравила мозг.