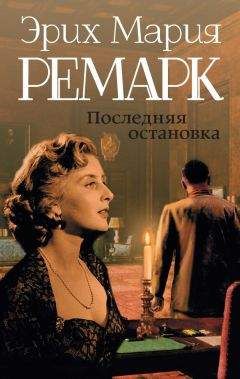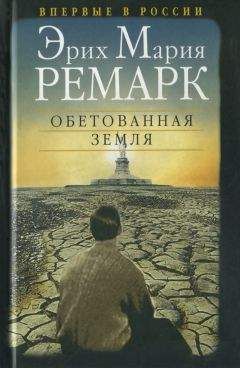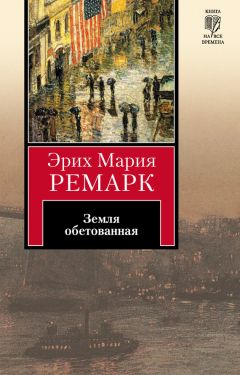Но все равно снять ее – минутное дело.
– Оставьте, – сказал Блэк. – Лучше мы сами сходим туда и посмотрим. Как вы считаете, господин Купер?
– Я-то не против.
Я снова притаился в своем логове среди картин, как Фафнир на золоте Рейна [37]. Через некоторое время они вернулись, и я был послан в спальню, дабы отвинтить крепежи и принести картину вниз. Поскольку отвинчивать было нечего, я провел в спальне несколько минут просто так. Окно спальни выходило во двор, и в противоположном окне, где кухня, я увидел госпожу Блэк. Она сделала вопросительный жест. Я энергично покачал головой: нет, пока нельзя! Госпоже Блэк все еще надлежало оставаться на кухне.
Я принес картину в серый плюшевый салон и вышел. Продолжение разговора я уже слышать не мог: Блэк плотно притворил за мной дверь. А мне так хотелось насладиться деликатностью, с которой он даст понять, что картина эта – его подарок жене к десятилетию их свадьбы и что, в сущности, он очень хотел бы ее сохранить; впрочем, в одном я не сомневался: Блэк сделает это столь искусно, что акула не учует ни малейшего подвоха.
Прошло еще примерно полчаса, после чего Блэк сам явился ко мне и вызволил меня из моего эстетического затворничества.
– Дега можете обратно не вешать, – сообщил он мне. – Завтра доставите его господину Куперу.
– Поздравляю!
Он скривился.
– На что только не приходится пускаться! А ради чего? Через два года он будет в кулачок смеяться – так подскочат картины в цене!
Я повторил вопрос Купера:
– Тогда зачем вы вообще продаете?
– Потому что не могу без этого! Меня увлекает сам торг! Я по натуре игрок. Но в наши дни достойных противников уже не осталось. В сущности, я играю против самого себя. Кстати, придумка насчет привинченной картины была совсем недурна. Вы делаете успехи.
Вечером я пошел к Джесси Штайн. И застал ее с заплаканными глазами, в состоянии крайней подавленности. У нее в гостиной сидели еще несколько знакомых, которые, судя по всему, пришли ее утешить.
– Может, я некстати? Я и завтра могу прийти, мне только хотелось поблагодарить.
– За что? – Джесси смотрела на меня с недоумением.
– За помощь с адвокатом, – объяснил я. – За то, что ты послала к нему Бранта. Мне продлили визу еще на два месяца.
Она вдруг залилась слезами.
– Да что случилось? – спросил я у актера Рабиновича, который обнял Джесси и начал ее успокаивать.
– Вы разве не знаете? – шепотом спросил меня Липшютц. – Теллер умер. Позавчера.
Рабинович подал мне знак больше вопросов не задавать. Он препроводил Джесси на софу, после чего вернулся. В кино Рабинович играл маленькие роли злодеев-нацистов, а в жизни был очень добрый, мягкий человек.
– Теллер повесился, – сообщил он мне. – Его нашел Липшютц. Он уже сутки висел, если не двое. У себя в комнате. На люстре. Все лампы горели. В люстре тоже. Должно быть, не хотел умирать в темноте. Так что, наверное, ночью повесился.
Я собрался уходить.
– Лучше останьтесь, – сказал Рабинович. – Чем больше у Джесси людей, тем для нее лучше. Она не выносит одиночества.
Воздух в комнате был спертый и душный. Из какого-то загадочного, первобытного суеверия Джесси не позволяла открывать окна: дескать, скорбь об умершем нельзя выпускать на свежий воздух, это нанесет покойному ущерб. Когда-то я слышал, что если в доме покойник, то, наоборот, надо все окна открыть, дабы выпустить на волю его блуждающую душу, но о таком странном обычае – закрывать окна, чтобы сберечь в доме скорбь, когда сам усопший уже лежит где-то в морге, – мне слышать не доводилось.
– Старая я дура, – сказала Джесси и решительно высморкалась. – Пора взять себя в руки. – Она встала. – Сейчас я сварю вам кофе. Или вы чего-нибудь другого хотите?
– Да ничего мы не хотим, Джесси! Оставь, пожалуйста!
– Нет-нет, сейчас я сделаю кофе.
В своем пышном, шуршащем платье она проследовала на кухню.
– Известна хотя бы причина? – спросил я у Рабиновича.
– А разве нужна причина?
Я вспомнил теорию Хирша о двойных и тройных упадках в жизни каждого человека и о том, что люди без корней, вырванные из привычной жизни, особенно подвержены опасности, когда такие упадки совпадают по времени.
– Да нет, – согласился я.
– Он не был особенно беден, так что это не от бедности. И болен не был. Недели две тому назад Липшютц его видел.
– Но он хотя бы работал?
– Он все время писал. Но не печатался. За последние лет десять у него ни строчки не опубликовали, – сказал Липшютц. – Но это со многими так. Чтобы только из-за этого – вряд ли.
– И ничего не оставил? Ни письма, ни записки?
– Ничего. Висел на люстре, лицо синее, язык вывален, глаза раскрыты, и мухи по ним ползают. В общем, довольно жуткая картина. Эти глаза… – Липшютца передернуло. – Самое скверное: Джесси обязательно хочет с ним попрощаться.
– А где он сейчас?
– В похоронном бюро. Их тут называют Funeral Home. Дом упокоения. Звучит-то как! Трупы там прихорашивают. Еще не бывали в этих заведениях? Непременно сходите. Американцы народ молодой, они не желают признавать смерть. Своих мертвых они гримируют, будто те просто спят. А многих и бальзамируют.
– Если он будет накрашен, Джесси может и не… – Я не договорил.
– Вот и мы так подумали. Но у Теллера это почти невозможно скрыть. Столько грима просто не бывает. Да и очень уж дорого. Смерть в Америке ужасно дорогая штука.
– Не только в Америке, – проронил Липшютц.
– Но только не в Германии, – сказал я.
– Во всяком случае, в Америке это очень дорого. Мы и так выбрали самое скромное похоронное бюро. И все равно, даже по самому дешевому разряду, это обойдется во много сотен долларов.
– Будь у Теллера такие деньги, он бы, глядишь, и не повесился, – мрачно заметил Липшютц.
– Может быть.
В комнате, где у Джесси висели фотографии, я заметил перемены. Теллера уже не было среди живых, его фото переехало на противоположную стену. На нем, правда, еще не было траурной рамки, но к обычной золоченой окантовке Джесси уже прикрепила траурную вуаль черного тюля. Теллер улыбался из этого странного обрамления и выглядел лет на пятнадцать моложе – фотография была чуть ли не юношеская. И само фото, и траурная вуаль – все было нескладно. Но даже в этой нескладности чувствовалась боль, и боль неподдельная.
Вошла Джесси с подносом и из кофейника с цветочками стала разливать кофе по чашкам.
– Вот сахар и сливки, – объявила она.
Все принялись за кофе. Я тоже.
– Похороны