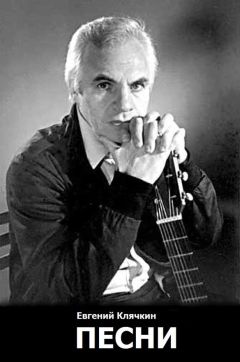Красноярск
Дождик, хватит поливать! Слышь, не сей!
За окошком не Нева — Енисей!
Видишь, кедры поднялись по краям,
вон и трубы тянет ввысь Красноярск.
Дымный город на могучей реке,
что зажата, точно древко в руке,
и полощется на нем целый край
от Игарки до Тувы — выбирай!
Работяга-город, что говорить!
Даже песне он диктует свой ритм.
В этом ритме ходят поршни машин
и вращаются колеса турбин.
Разделен рекой на две стороны,
хорошо они друг другу видны:
справа — трубы, корпуса, корпуса,
слева — белых этажей пояса.
Здесь — работа, слева — отдых и дом.
Все поставлено умом и трудом,
все оплачено единой ценой,
и гордится сторона стороной.
Я на левом берегу — я здесь гость.
Всем по ягодке, а мне, значит, горсть.
Я спасибо не скажу — промолчу.
По-другому я ответить хочу.
Город твердых рук, внимательных глаз,
я вернусь к тебе, поверь, и не раз.
И ни разу — в это тоже поверь! —
ты не скажешь: зря открыл ему дверь.
Ладно — двери, мне важнее сердца,
что раскрылись для меня до конца.
Я доверье обмануть не смогу
и ни в слове, ни в строке не солгу.
А погодка, между прочим, права:
серый дождик — ну Нева и Нева!
Прокатиться бы за часик по всей!
Нет, товарищ, это все ж Енисей!
Лед шатается,
потом растает сам, —
вместо твердого — вдруг вода.
А во что верится —
то перемелется,
Остальное все — ерунда.
Намечается
вроде разница
между «надо бы» и «пора»,
но качается,
словно дразнится,
липа черная у двора.
У одних кричат
в песнях вороны,
у других поют соловьи.
А у меня одни
ветки черные
все царапают изнутри.
Но когда же все
образуется,
переменится моя жизнь?!
А у моей жены
дочка-умница
мне советует: «Воздержись!»
Ах, у моей жены
дочка-умница
мне советует: «Эх, воздержись!»
Наш костер уже
не раздуется,
ты, постылая, отвяжись!
Чей стебелек
согнул травинку,
и тяжелый муравей
не мог взобраться?
А кто потом
травинку поднял,
и трусливый муравей
уполз обратно?
Плывет листок,
плывет по небу,
обгоняет облака —
куда плывет он?
Плывет земля,
струится воздух,
начинается у ног
земле круженье.
Плывет трава.
Плывет трава…
Кто-то когда-то так о любви
выдал примерно:
«Пламень сжигающий, ад в крови», —
очень верно!
Мы же, будь белый ты, будь ты желт —
лишь бы скорее.
И забываем про то, что жжет, —
помним, что греет.
И понапрасну, поверьте,
с утра прошлое лепим:
все, что так ярко пылало вчера,
нынче — лишь пепел.
Нет благодарности ни на грош,
памяти — и в помине.
Это не топливо, сам поймешь, —
все это — мимо!
Завтрашний день ей не обещай —
нет у ней завтра.
Только сегодня, только сейчас!
Промах здесь — за три!
Зренье острее, чем у орла,
взгляд — беспощадней.
Только до донышка, только дотла!
Помни. Будь счастлив.
Когда смыкаются уста,
когда слова невнятны,
и ночь, как истина, проста,
и вместо глаз — лишь пятна, —
тогда несет дежурный блеск
и высшее значенье
технологический процесс
добычи наслажденья.
Чадит ли там или горит —
все это жалкий прах,
но если у тебя стоит —
всегда ты будешь прав.
Да здравствует единый бог
пути и постиженья,
ложь обращающий в любовь,
в победу — пораженье.
Как все помнится — так и было,
хотя лучше б то было во сне:
ты не поровну хлеб делила,
отдавая большее мне.
И выхватывает коптилка
или памяти тонкий луч
с кожей смерзшиеся ботинки
и алмазный иней в углу.
В свете пляшущем тени пляшут:
мальчик, женщина… (В горле ком.
Осторожно, никто не плачет.)
Мальчик мучается с чулком.
Ну конечно — ни к черту память!
Вон же валенка уголок.
Но до ужаса не отлипает
насмерть вросший в ступню чулок.
«Ты согреешься — он оттает.
Ну не бойся так, не дрожи.
Вон конфетка тебе осталась».
— А твоя где? — «А я уже».
Ту конфету, батончик, мама,
я теперь бы… Ах, нет, не то.
И лежит поверх одеяла
ватой стеганное пальто.
Все подробности, все детали —
четко так, что сойти с ума.
Как под вспышкою моментальной:
лица белы — в глазницах — тьма…
…Пискаревских костей ступени…
У которой — перед тобой
опуститься мне на колени?
«У любой, сынок… у любой».
Из того же ряда, что «Возвращение», спустя десять лет. Здесь просто воспроизведено то, что в жизни было на самом деле. Почему я жив, почему она — нет? Тем более, что этажом выше, на чердаке жили Курочкины, где все было наоборот, где пайку ребенка съедала мать, а ребенок умер. Я не обвиняю. Надо быть великим человеком, человеком великого мужества, чтобы пойти на такое. И те, кто думает, что какая мать поступит иначе, очень ошибаются. По-разному поступит каждая мать.
1989
Ночью вода вертикальна, как лес,
лес подошел к воде.
Весла роняют задумчивый всплеск,
вторящий тишине.
Ночью камыш вырастает звеня,
водоросли смелей.
Небо уходит и тени огня
прячет среди теней.
Ночью острее встают камыши,
весла — как два крыла —
капли роняют на выгнутый щит —
маленькие тела.
Ночью звезда, опускаясь к ногам,
зябко дрожит в воде.
Лес остывающий движется к нам,
полный чужих надежд.
Ночью деревья отдельны, как мы, —
каждому по звезде.
Сонные блики лежат у кормы,
к сонной припав воде.
Лодка уютная, как колыбель, —
как колыбель, чиста,
в лилиях белых и в звездах с небес —
как колыбель в цветах.
Это был самый урожайный месяц в моей жизни. Виноват, наверное, отпуск, проведенный именно так, а не иначе. В этой песне основное — ощущение от пушкинских мест. Сначала пришла мелодия.
1967
Бежит под горку жизнь моя,
ее все меньше остается.
И если нам еще поется, —
спасибо вам, мои друзья.
Спасибо милым голосам,
нам приносившим утешенье
и ясность посреди сомнений,
которой не находишь сам.
Неразделимы вы и я —
что чье в душе моей и в теле?
Пускай кто хочет, тот и делит,
Вы — плоть моя, мои друзья.
Кому еще мне доверять?!
Кто не солжет ни в ту, ни в эту?
Ах, сколько кружит над планетой
ветров попутных, чтобы врать!
Нас Бог избавил от вранья,
а вот годков отмерил скупо.
Но жаловаться тоже глупо,
любимые мои друзья!
И слова нет для нас «потом», —
нам в лица дует черный ветер.
Тем меньше мы на этом свете,
чем больше вас — увы! — на том.
Пока на чашечках кривых
весы удерживают гири, —
мы сохранимся в этом мире —
живые среди вас — живых…
Бежит под горку жизнь моя —
ее все меньше…
А вас все больше…
Ее все меньше…
А там все больше…
Посыпались мои друзья за черту… Вернувшись из Москвы после похорон Юры, я написал песню, которая стала прощальным подарком ему. Когда писал, я все время помнил, что он ее — слышит…Тускнеют огоньки уходящего поезда, и остается серебристое сияние Творчества, и, твердея на глазах, из него вырастает профиль, в котором ничего уже ни изменить, ни добавить нельзя. Рождается Легенда.