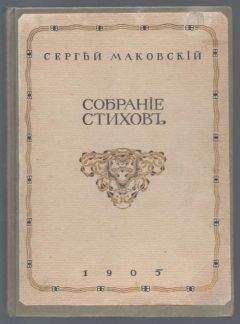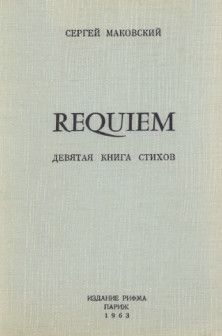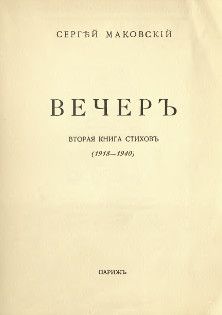«Ах, эти горы! По утрам…»
А х, эти горы! По утрам,
чуть свет, какие озаренья!
Молюсь нагорным алтарям —
и мира непорочен храм,
как в утро первое творенья.
Ах, улететь бы в эту высь
от тьмы, от ужаса земного —
туда, где горы вознеслись
и с бесконечностью слились
пучины неба голубого.
Ах, раствориться в этой мгле,
пронизанной его сияньем,
не помнить о добре и зле,
не быть собою на земле —
быть только светом и мерцаньем…
Певица («В четверг под моё окно…»)
В четверг под моё окно
приходит женщина петь.
Пусть ей-то уж всё равно,
да жуть на неё смотреть.
Во взоре не то вопрос,
не то, как ножом, печаль,
и грязная прядь волос
бахромкой седой — на шаль.
А песню поёт она
такую — хоть плачь навзрыд,
всю душу мою до дна
призывной тоской пронзит.
Любого греха страшней,
нельзя никому простить.
И хочется крикнуть ей:
Неправда, не может быть!
«Все слезы к старости да сны воспоминанья…»
Все слезы к старости да сны воспоминанья,
душа утихшая — как озера вода
в предсумеречный час, когда своё мерцанье
отдаст ей нехотя вечерняя звезда.
Померк усталый день, а всё — воды зеркальной
не гаснет глубина: в лазури озерной,
покинув небеса, клубится остров дальний
и озаряется последней тишиной.
«Судьбы перехитрить не пробуя…»
Судьбы перехитрить не пробуя,
Смири свой дух — и плоть, и страсть.
Нет, человеческою злобою
Суровых будней не заклясть.
Заботой сердце перегружено.
Хоть любит, любит, а больно.
Гитара старая простужена,
Хрипит и кашляет смешно.
Но ржавых струн не перетягивай.
Пусть фальшь. Далеко ль до беды?
Терпи и бережно потрагивай
Закоченелые лады.
«Полжизни душно-плотской яви…»
Так, ты жилица двух миров…
Тютчев
Полжизни душно-плотской яви
и недостойной суеты;
полжизни — сон, и тот же ты
живешь,
томясь в другой державе,
в тоске, в слезах по горней славе
тайноречивой красоты.
В тебе душа как бы двойная:
мятежной гордости полна,
грешнее грешного одна;
другая — о, совсем другая! —
всё шепчет что-то, засыпая.
Проснулась… и не помнит сна.
1948
«Мне снилось, будто умираю…»
Мне снилось, будто умираю…
Вот-вот — минута, и уйду,
в последнем страхе замираю,
последнего забвенья жду.
Казалось — кончено… И в муке,
в осиротелом забытьи
к вам я протягиваю руки,
друзья и недруги мои!
Прощайте. Не судите строго
за то, что, сердцем одинок,
любил я многих, но немного
и больше полюбить не мог.
1959
Венецианские ночи (сонеты)
I. «Всю ночь — о, бред! — в серебролунных залах…»
Всю ночь — о, бред! — в серебролунных залах
Венеции я ворожу, колдун.
И дышит мгла отравленных лагун,
и спят дворцы в решетчатых забралах.
Всю ночь внимаю звуков шаг усталых, —
в колодцах улиц камни — как чугун,
и головы отрубленные лун
всплывают вдруг внизу в пустых каналах.
Иду, шатаясь, нелюдим и дик,
упорной страстью растравляю рану
и заклинаю бледную Диану.
А по стенам, подобно великану,
плащом крылатым закрывая лик,
за мною следом лунный мой двойник.
II. «Ленивый плеск, серебряная тишь…»
Ленивый плеск, серебряная тишь,
дома — как сны. И отражают воды
повисшие над ними переходы
и вырезы остроконечных ниш.
И кажется, что это длится годы…
То мгла, то свет, — блеснет железо крыш,
и где-то песнь. И водяная мышь
шмыгнет в нору под мраморные своды.
У пристани заветной, не спеша,
в кольцо я продеваю цепь. Гондола,
покачиваясь, дремлет, — чуть дыша
прислушиваюсь: вот, как вздох Эола,
прошелестит во мне ее виола…
и в ожиданье падает душа.
III. «Ленивый плеск, серебряная гладь…»
Ленивый плеск, серебряная гладь,
дурманы отцветающих магнолий…
Кто перескажет — ночь! — твоих раздолий
и лунных ароматов благодать?
Ночь! Я безумствую, не в силах боле
изнемогающей души унять,
и все, что звуки могут передать,
вверяю — ночь! — разбуженной виоле.
И все, что не сказала б никому —
ночь! — я досказываю в полутьму,
в мерцающую тишину лагуны,
и трепещу, перебирая струны:
вон там, у пристани, любовник юный
взывает — ночь! — к безумью моему.
Скеле («Как ты мне дорого, приветное село…»)
Как ты мне дорого, приветное село,
Меня пригревшее в ужасную годину,
Когда на всей земле царили смерть и зло,
И я, как родину, обрел твою долину.
Ах, до того в Крыму я прожил целый год,
Не зная о тебе, год гнева, слез и пыток.
Я выпил до конца, скорбя за мой народ,
Обидами людей отравленный напиток.
Все вынес я, всю боль отчаяний земных,
Внимая летописи дел и слов бесславных.
Томился мыслями о милых и чужих,
Постиг терзание, которому нет равных:
Бездействуя, не знать покоя никогда,
Следить внимательно, минута за минутой.
Как в одурманенных сердцах растет вражда
И разгорается междоусобной смутой;
Как подлый торг идет на кладбищах войны,
Как совершается вблизи и там, далеко,
Голгофа жуткая замученной страны,
Немилостивый суд неведомого рока…
Все видеть и молчать. И плакать долгий год
Над тем, что навсегда так горько обмануло,
И ждать: вот и тебя случайно захлестнет
Волна нечистая безумья и разгула…
И я не выдержал томительных обид.
Мне опротивела слепая, злая смута,
И черноморский брег, и Симеиза вид.
И в горы я бежал, в горах ища приюта.
Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,
Под тяжестью сумы моей сгибая спину.
Туда, где не было южнобережных вод,
Через Шайтан-Мердвен, в Байдарскую долину.
Был пасмурный февраль. Всходила чуть трава.
Белели кое-где подснежники лесные.
Пустынный вечер гас и золотил едва
Крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
И было холодно. Поток шумел в ущелье.
Усталый, раненый всей суетой невзгод,
Не радуясь весне, я брел на новоселье.
Без цели, наугад. Скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
Как злые нищие, мне преграждали путь.
Шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше, между скал вилась моя тропа.
Вот перевал. И вновь безлюдная дорога.
И снова хмурый лес, и камни, и толпа
Осиротелых пней, черневших так убого.
И вдруг… Передо мной — сияющий простор,
Овеянный живым, волшебно-юным югом,
И в золоте зари — чуть видимый узор
Холмов, раскинутых широким полукругом.
Виденье нежное, обетованный край,
Мечта художника о недоступных странах,
Долина вешняя, прекрасная, как рай,
Как остров сказочный в дымящихся туманах!
Я ахнул… Никогда, нет, никогда во сне
Не грезился мне мир чудесней и безбрежней,
И Божья красота не улыбалась мне
Спокойнее, добрей, блаженней, безмятежней.
И стало так легко. Недавняя печаль
От сердца отлегла. Я вырвался из плена.
И мне мерещились Фра-Анжелико даль,
Закаты Гоццоли и сумерки Пуссена.
Прохладная изба. Широкий, светлый двор.
Колодезь, клумбы роз, табачные сараи.
Соседок за стеной нерусский разговор.
Коровы, овцы, кур звонкоголосых стаи…
Душе все любо здесь, милей день ото дня:
И на окне цветы, и в огороде грядки,
И эта пасека у ветхого плетня,
И песня грустная хозяюшки-солдатки —
Ее рассказ о том, как нынче трудно ей
Управиться одной с работой деревенской,
И выводок ее подростков-дочерей,
Уже пленяющих задумчивостью женской;
Мила и детворы непрошеной гурьба,
Что весело шумит, под окнами играя…
И бедная моя беленая изба
Волшебней для меня дворцов Бахчисарая!
Работой полон день. Везде и млад и стар
В чаирах возится и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных можар.
Свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! Смотрю, дивлюсь, брожу.
Порой направлю путь к Узундже иль Саватке.
Там у татар прием радушный нахожу:
Мне нравятся их быт и гордые повадки.
Люблю и танец их на свадебных пирах,
И верность древнюю гостеприимства праву,
«Селямы» важные и, в сакле, на коврах,
Степенный разговор и кофе — по уставу…
Настанет вечер. Тишь. Кузнечик засверлит.
У завитых плетней — играющие дети.
Задумчивый мазин на минарет спешит.
И молча старики присели у мечети.
Вот жалобно звенят гортанные слова
В вечернем воздухе, протяжные, как стоны.
Им вторит иногда, вдали, едва-едва,
Церковный колокол. И вместе плачут звоны.
А вешняя заря зовет уже ко сну.
Все — в ризах золотых закатного пожара.
И солнце желтое, большое, за волну
Лилово-синих гор садясь, пылает яро.
Все ниже, ниже… Вот в огне его луча
Прощального холмов порозовели склоны.
И гаснут… В сумерках, понурые, мыча
Отрывисто, бредут волы в свои загоны.
И где-то в хуторах, уснувших на реке,
Сторожевые псы залают спозаранок,
И песню заведет татарин вдалеке,
И слышны голоса гуляющих гречанок.
И дружною толпой, окончив страдный день
В окрестных кабаках, работницы-хохлушки
Пройдут по зеленям и, проплывая в тень,
Затянут вольные, знакомые частушки.
И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит…
Уйти бы вдаль, туда, туда в поля родные,
Туда, где страда слез кровавых и обид.
О, родина, прости! Воскреснешь ли, Россия?
И наступает ночь. Прохлада, аромат.
Сияет Млечный путь над гребнями опушек.
Трещат кузнечики, и в глушь свою манят
Блуждающие «сплю», призывы совок-сплюшек.
А там опять рассвет и таинство красы,
Которой нет конца, единственное Скеле!
И дни уносятся, как быстрые часы,
Мелькают месяцы, как резвые недели.
Весна давно прошла. Отпели соловьи.
Кукушка милая вдали откуковала.
Повылетали пчел мятежные рои,
И буйной зеленью долина заиграла.
Короче солнца путь, и жарче летний прах.
Ручьи повысохли на дне ущелий сирых.
Черешня дикая поспела на горах,
И яблони цвели и отцвели в чаирах.
Как скоро! Уж в саду румянятся плоды
И пухнет помидор в осеннем огороде.
Желтеют пажити. Огромные скирды
Насупились в лугах… И лето на исходе!
А вот, нахмуренный, и август в дверь стучит
И нерадивого клюкой своей торопит.
Работа сельская еще живей кипит.
Всяк на зиму добро умноженное копит…
Но так же все горят а нежат небеса,
И так же на заре туманы гор колдуют,
И по краям ложбин кудрявятся леса,
И в рощах горлицы без устали воркуют,
Все той же музыки мечтательной полна
Краса осенняя твоих угодий, Скеле, —
И утра благовест, и ночи тишина,
И звоны полудня, и вечера свирели.
И я, под липами, все в том же уголке,
Обласканный теплом природы светозарной,
Внимаю лепет их, качаясь в гамаке,
И строфы дружные слагаю благодарно…
1918
НАГАРЭЛЬ (Сонеты) Посвящаю памяти Н. С. Гумилева