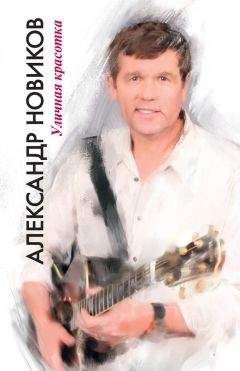Пугачев
Стуком скорбным и утробным
Гвоздь последний в месте лобном,
Ноет колокол в висках.
В нос шибает дух сосновый,
Дело стало не за словом
На оструганных досках.
Не в карете золоченой
Ждут Емельку Пугачева.
Тьма юродивых окрест.
Жернова молвы скрипучей
Голоса смешали в кучу:
«Четвертуют, вот те крест!..»
На задворках и в пристенках
Унимают дрожь в коленках
Бабы, истово крестясь.
На чурбане злая метка —
Не мила ли станет клетка,
Коли выкликнут: «Вылазь!..»
Сорванцы — вершок от пола,
Глаз не кажут из подола:
— Ан привязанный, аль нет?!.
— Чай, душа на нитке в теле…
— Твой черед пришел, Емеля…
— Дострадай же напослед…
А над рощей крик вороний —
Вперебой его хоронят,
Изнуренные постом.
И над грешным да немощным,
Одуревши от всенощной,
Клювы щелкают хлыстом.
А за нервы тянут души
Христарады да кликуши:
— Что анафему жалеть?..
«Чай, болезному яму-то
Поделом теперь за смуту!» —
Свистнет сотникова плеть.
Вот и сам. Глаза упрямы.
Шаг тяжелый, шаг корявый —
Не помилуют, небось.
И под дробное стучанье
Крест последний на прощанье
Кинул смертным, словно кость.
Ляг на крест, расправь-ка плечи!
Палачам команда: «Сечи!..»
Прокатилось эхом: «А-а-ах…»
И хрипел он, пропадая:
— Так и быть, за всех страдаю… —
Муку стиснувши в зубах.
А за дальнею слободкой
Поминают смерды водкой
На последний на пятак:
Был вожак в лихом заделе.
Не один ты, чай, Емеля, —
Может, сыщется смельчак!..
1984 год
Стены ходуном ходят по ночи,
А вдоль них, гляди — царем!
Пьяный, покачайся, в голос покричи, —
Может, вместе что с тобой сорём?
Вот такая жизнь — некуда спешить.
Пряник бы — ан нет — палка.
От того душа лопнула — не сшить.
А ведь вещь была. Жалко.
Золото — душа. А ее, как лом,
Без клейма-то ценят в грош.
Холодом от всех, а стакан — с теплом,
Оттого к нему прильнешь.
А людей просить — боже упаси! —
Нрав-то у людей рьяный.
Уж лучше горлохвать, лучше голоси,
Горьконалитой пьяный.
Вот такая жизнь — страшно протрезветь.
День с утра такой дрянной.
Дома — хоть шаром. И в карманах — медь.
А дороги все — к пивной.
Стены ходуном ходят по ночи,
Разевают рты ямы.
Пьяный, покачайся, в голос покричи.
Горьконалитой пьяный…
1990 год
Пять минут ходьбы. Солнце спину лижет.
В клумбы пала шерсть лисья.
Церковка звонит, и город снова рыжий.
С жалостью топчу листья.
А раньше было так: зеленый и упрямый,
Грудью нараспах, мне все в поклон столбы.
Да навеселе к рыжей и кудрявой —
Пять минут ходьбы. Пять минут ходьбы.
Пять минут ходьбы. И вот он, переулок —
Фонарям глаза повыбили.
Тих да гладок был, а нынче всклочен, гулок.
Выпью этот гул, пока не выпили.
А раньше было так: здесь загалдят вокзалом,
И родственники все встанут на дыбы.
— Ну, что же ты пришел? Ведь я же все
сказала…
— Так пять минут ходьбы. Пять минут
ходьбы.
Пять минут ходьбы. И сирые собаки
Тычутся в ногах мордой.
И город мой — босяк в расписной рубахе,
Пьян, бедов — и тем гордый.
А раньше было так: и праздники — от бога,
И золото погон, и золото трубы.
А теперь одна вот в золоте — дорога.
Пять минут ходьбы. Пять минут ходьбы.
Мне еще по струнам можется наотмашь,
По ветру слова бросая.
Да и сам в какую ни оденусь роскошь,
Голосит душа босая.
И раньше было так: лишь через пальцы
свистнуть —
И мир перед тобой… Ах, если бы кабы
Каждому из нас прожитое втиснуть
В пять минут ходьбы. В пять минут ходьбы.
Сосед Антоныч жил пока, собой не донимал.
Под солнцем место — девять метров
в коммуналке.
Костыль под левую с утра, в пальто —
и похромал.
Соседи звали за глаза: «зипун на палке».
А к ночи тихо — щелк замком,
Пахнёт в прихожей табаком,
Вздохнет на панцирной — и в храп
До самого утра.
Где ногу потерял старик — бог весть.
Бог весть еще какие раны есть.
И воевал — не воевал,
Никто вопрос не задавал.
Так жил и обрастал смешно щетиной
и быльем.
По мелочам ко мне, случалось, обращался:
— Такое дело, Александр, ссуди до пенсии
рублем,
Через неделю возвращу, как обещался.
Он мог бы мне не возвращать —
Я был готов ему прощать.
Он бедно жил, он тихо пил,
И я б не то ему простил.
Родных его никто не знал и не узнал бы
впредь.
Полсотни пенсии — вот все, что слала почта.
Он до последней не дожил три дня, и вышло
умереть.
Соседи видели из скважины замочной.
И вот на кухне у кастрюль,
Где чистят лук, где парят тюль,
Где только знали, что бранить,
Собранье: как похоронить?
Куда весь хлам его девать, куда?
Кто завтра въедет проживать? (беда!)
И есть ли кто-то из родни? —
Вот и хоронят пусть они!
Так день прошел и — вот те на! — вприпрыг
и семеня,
Бочком в прихожую, прикашливая скорбно,
По одному, по два, по три, как с неба грянула
родня,
Так ненавязчиво и по-собачьи сворно.
И здесь же (не из хвастовства!)
Склоняли степени родства,
Сыскался даже брат родной
С сынком и первою женой.
Составлен перечень, где скарб наперечет.
(А то, не дай бог, что к соседям утечет!)
И по согласию сторон:
Дележка — после похорон.
А через день еще старик в последний слег
приют,
Вороны справили поминки сиплым карком.
На стены новые жильцы известку
с дихлофосом льют
И сокрушаются: «Ах, как полы зашаркал!..»
На дверь — табличка, новый шрифт,
Последний стул запихан в лифт,
Родным гора как будто с плеч,
Острят над поводом для встреч.
Машина «Мебель» у подъезда тарахтит,
А женка брату: «Мебелишка-то не ахти…»
Галдит-гадает детвора:
— Кто переехал со двора?
1985 год
Аккорд… И вспомнилось: как жаль,
Тогда вы не были.
И не для вас играл рояль,
Играл для мебели.
В усмешке выбелив оскал
Сквозь дым презрительно,
Он за Бетховеном таскал
По нотам зрителя.
Мешалась фальшь у потолка
С ликерным запахом.
А им хотелось гопака
Вразмешку с Западом.
Чтоб три аккорда на ура
Всех в ряд поставили.
Пассаж по линии бедра
К фигурной талии…
И на локте, ко мне лицом,
Рыжеволосая
Глазела пасмурным свинцом
Над папиросою.
И, подпирая инструмент
Пудовой похотью,
На вдох ловила комплимент
В гитарном хохоте.
Она права, на что ей Бах,
Орган прославивший —
Ей ближе соло на зубах
Рояльных клавишей!
Она с собой не унесет
Ни ноты, к сведенью.
И я в отместку ей за все
Лупил в соседние.
Пошла в цыганский перепляс
«Соната Лунная»,
И загорланили: «Эх, раз,
Да семиструнная!..»
Полез частушечный мотив
Из-под прелюдий,
Хлестались к танцам на пути
Носы о груди,
Пошла паркету по спине
В галоп гимнастика,
И восхищались в стороне:
«Вот это — классика!»
Я бил злорадно, от души,
Тряслись берцовые.
В упор шептали: «Ну, спляши!..» —
Глаза свинцовые.
Хватали воздух кадыки,
И бусы бряцали,
И скалил белые клыки
Рояль с паяцами.
И вдруг завыл магнитофон
Протяжно, споено,
И все рванули на балкон:
«Вздохнуть с Бетховена!..»
Аккорд… И вспомнилось: как жаль,
Тогда вы не были.
И не для вас играл рояль —
Играл для мебели.
1986 год