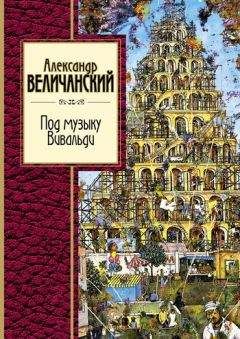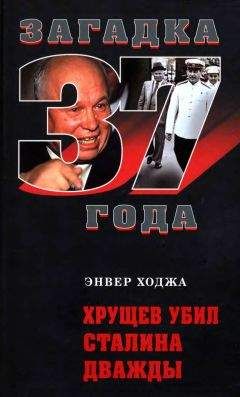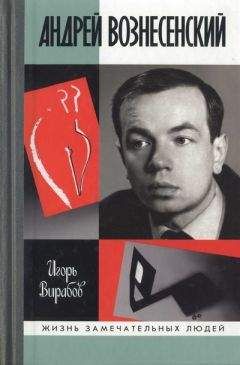«Облака стали плотью…»
Облака стали плотью —
долговаты, круглы ль —
куполов поголовье,
глав и главок горбыль —
шлемы, луковки, маки,
полусвет полусфер —
и озерный в размахе
не разгонит их ветр.
А у храмов здешних
дыханьице – пух.
Нет, не дышат пышно
абсид их меха.
Невесомо, каменно
средь строек-разрух
тихо за деньками
стоят их века.
А разводы-валики,
как узор на прянике —
на прянике будто —
печатные буквы.
А и прясел вмятины
на сахаре стен,
как в прянике мятном —
глянул – будто съел.
А под куполом идет
тут узора хоровод —
чьи следочки из земли
на него посрезали?
Уж и сладок всяк следок —
то-то водится танок[10]
под главою гонтов́ой —
не расходится домой.
«Втиснут в ряд с домами…»
Втиснут в ряд с домами,
как в скитанье – скит,
бьет притвор крылами,
бьет притвор крылами,
бьет притвор крылами,
да не возлетит
или, тужась тетивой
в пустоту над нами,
целит он углами —
звонницы стрелой.
Было дерево карим —
стало сивым, как сумрак, как дым,
было смуглым веками —
стало серым, устало-седым.
Кровлею ли на храме,
гнута ль лемехом в главах она
иль над башен «кострами»
серебрится дерев седина.
«А каково теням вольготно…»
А каково теням вольготно —
вечерним, утренним и дневным —
на этой извести церковной,
на сей блаженной кривизне —
округло, угловато, прямо,
устойчиво или покато,
то выпукло, то углубленно,
то высветлено, то темно,
то явно слишком, то уютно,
укромно, потаенно или
прозрачно, призрачно ли – словом,
различно – замечательно!
А как они дышат? —
как будто не камень, а мех
кузнечный. Гори же,
сиянья алтарного горн.
И камня прохладу
вдыхай же, сияние всех
свечей и окладов
и ликах в глубинах икон.
А как же пустует
теперь эта кузница их
и пьет вхолостую
дыхание ветхих мехов?
Вино или млеко? —
чем храм опустевший налит —
нет эхом, как некой
он влагою полн до краев.
Храмы-то набухли
пустотой без блага —
мертвые, как буквы
из Слова Живаго.
Или живы линии
тайной жизнью слов —
полевые лилии
главок, куполов?
«Дерево – цветений сплав…»
Дерево – цветений сплав.
Сочен, коренист —
силуэт любой из глав
церкви – вечный лист:
иль зеленый, словно лес,
заржавелый ли —
лист – застывший соков всплеск
солнца и земли.
Серебрится, яко
райская змея —
кровельная дранка,
гонта чешуя —
хоть и не сгорело
дерево дотла,
стало его тело
серым, как зола —
будто пламя съело,
а память сберегла.
Что же видят издалече —
из былого лютой сказки
бровки[11] храмов – спины, плечи
да мотоциклистов каски,
тусклые затылки или
отражения своих
стен былых в автомобилей
задних стеклах ветровых.
Есть и люди во Пскове
(кто не видел людей?).
Но мельканье людское
к благолепью церквей
непричастно: настолько
посторонни они —
эти люди – устоям
собственной старины,
что почти незаметны
рядом с этой красой —
столь странны, несусветны,
что НЕСХОЖИ С СОБОЙ.
Улеглось волненье
арок, закомар.
Кривизну прозренья
подточил комар.
Прихоти насущность
нам понять слабо.
Стало в мире скучно,
скученно. А по
городам и весям,
замесив бетон,
ходит бес с отвесом,
яко со хвостом.
Строже, чем орнамент,
он на нас глядит,
заложив фундамент,
яко динамит.
Летом далече до ночки.
В небе над Псковом речным —
ласточки, чайки да летчики,
голуби, ангелы, дым
фабрик да рябь воробьиная,
облачности паруса
и, как былое, незримая
звезд непроглядна краса.
После зорьки алой
по ночам по белым,
по ночам упрямо
ночь белее храма,
храм белее ночи,
ночь белей, чем очи
подколодной чуди здешней,
чуди белоглазой.
Солнце вечное,
беспречь свети!
В тебе ночка-глубь —
как в тихом омуте.
Церковь, как в цвету
яблонька одна.
На белом свету
нам и ночь красна!
а и насквозь видна,
как пить до дна:
эх – была не была —
нам и ночь бела!
Богородица ходила,
следу Божьего искала,
во оставленные храмы
проникала сквозь затворы,
со Пароменья Успенье
напоследок оглянула —
среди б́ела д́енька Дева
одинешенька, как ночка.
Каково во Пскове людно,
таково ей одиноко.
Каково во храмах пусто,
так никто ее не узрел.
Из Софийской первой летописи
…В семь тыщ восемнадцатое
лето с сотворенья
мира Божья, генваря
в день тринадесятый
изволил Великий Князь
изволить две воли:
веча бы у нас не быть,
снять колокол вечный.
Пойманы Богом
и Великим Князем —
волен Бог и государь
в вотчине своей он,
во Плескове и во нас,
в колоколе нашем,
в вечном колоколе и
гуле его вещем.
…Опускался долу
колокол, что солнце,
и, на колокол смотря,
плакати начата
вечники-крамольники
псковичи – от мала
до велика(токмо
слез не испустили
кои млады и зане
не в разуме сущи) —
как им не упали
зеницы на землю,
зеницы на землю
со слезами вкупе?
како не урвалось
от корени сердце,
плачучи по старине
и по своей воле?
…Поклонившись Троице,
князь начата править —
правых, виноватых
по себе твориша.
От насильства, грабежа
разбегоша многи,
пометав детей и жен,
в города иные,
иноземцы во свои
земли разъидоша,
и осташа во Пскове
псковичи едины.
Некуда, Заступница,
от себя успеть:
ЗЕМЛЯ НЕ РАССТУПИТСЯ
А ВВЕРХ НЕ ВЗЛЕТЕТЬ.
«С той поры, как царь Иван Васильевич…»
С той поры, как царь Иван Васильевич
(а точнее царь Василь Иваныч)
выводил измену изо Пскова,
Псков навек остался неизменным,
а коль изменялся – неприглядно,
как душою брошенное тело
страшно изменяется – хоть прибран
прах, омыт водою ключевою,
прежде чем для вечного прощанья
всем на поглядение поставлен.
Ищи ветра в поле.
Во бору – дорог.
Во нашей неволе
волен князь да Бог.
Как полей раздолью
мерою – сыр-бор,
так и своеволью
мера – произвол.
И когда над полем
лес зайдется в дым,
уж мы поизволим!
уж мы похотим!
Каждый храм во Пскове
сам себя укромней,
каждый храм во Пскове
сам себя огромней:
хоть велик – уютный,
хоть и близок – дальний,
хоть миниатюрный,
но монументальный —
ширь и высь в обличье
тесное впитал он:
велико величье —
обойдется малым.
Ан не вывернуть нам
храмов наизнанку —
двоеличие стенам
вечное дано:
уж снаружи-то стена
стеснилась, как правда,
а внутри, как истина,
раздалась темно.
Уж наружа-то видна,
а нутро укромно.
Всяка истина – стена.
Всяка правда – прорва.
«Знать теснее извне, чем внутри…»
Знать теснее извне, чем внутри,
храмы псковские, но до поры
в этот их первозданный секрет
нету входа и выхода нет —
не войдет, не воскликнет позор:
«в тесноте Ты давал мне простор»,
до пределов небесной красы
«в скорби распространил мя еси».
Чрез звонницы основу,
чрез мощный четверик,
как будто через слово,
мы смотрим через них,
и сквозь теснины-своды
мы видим скорбь-страну,
ак будто через воду
или через весну[12].
Пуста, аки бездна,
храмов старина —
вера БЕССЛОВЕСНАЯ
в ней заключена —
посильнее искуса,
попустей поста —
хоть извне неистова,
а внутри пуста.
«Расцвет – он мастера, как сок…»
Расцвет – он мастера, как сок,
всего всосет из почвы
и вместе с именем его
поглотит – не беда:
потусторонен, словно Бог,
творения воочью,
жив мастер – легкая стопа
во глубине следа.
Упадок-дока имена
творит: играет ими.
И за соломинку труда
напрасно ухватясь,
сам мастер до трясины дна
в свое уходит имя —
и лопаются пузыри
земли: поверхность, грязь.