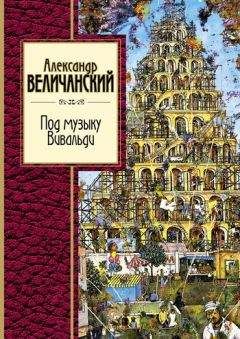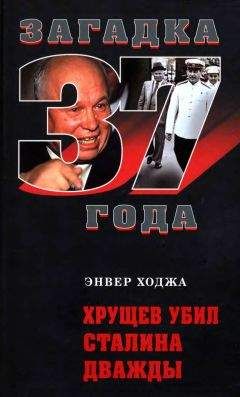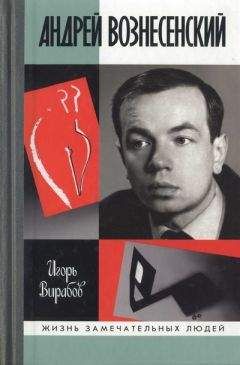7. Алексей
А звонарь-то Алексей-заика
пред своею звонницей воскресной,
как Давид пред скиниею, скачет,
словно он к колоколам привязан,
и на нитках, как марионетка,
дергается, звону повинуясь,
воздух бьет подрясника крылами
не своей, а Божескою волей.
От великой доброты душевной
заикался он, переполняясь
добрым словом, и нагрянув в горло,
птицею в силках – словечко в связках —
билось, и провещаться стараясь,
Алексей сильнее улыбался
и махал руками, словно птаха,
выше смысла звучного взлетая.
КАХЕТИНСКИЕ СТИХИ
1985–1986
«Где хорошо».
В. Хлебников
В Кахетии, неподалеку от Телави, есть деревня Алмати. Я гостил там несколько раз и всякий раз недолго. Однако на то, чтобы хоть извне осмыслить «механизм» жизни этого селенья, ушел весь многолетний опыт моего общения с Грузией, без которого я не постиг бы образ страны в очертаниях этой деревушки. Впрочем, многолетнего опыта не жалко – приобщившись Алмати, я вдруг другими глазами взглянул на всю Грузию, на Тбилиси и даже на старинных в нем друзей. Приобщившись Алмати, я другими глазами взглянул и на русскую поэтическую традицию описания «кавказских красот», основным недостатком которой мне представляется нарочитая экзотичность изображений в сочетании с растительной пышностью слога, которую наши северные гости пытались сквозь неизвестный им язык усвоить у своих гостеприимных хозяев. Тешу себя надеждой, что хоть в какой-то мере отступил от этого чуть приевшегося уже в XIX в. канона, и, может быть, так оно и есть, если понимать «красноречие», без которого трудно говорить о Грузии, как ОБРАЗ, а не как ПРИЕМ. Тем не менее, освободиться от каких бы то ни было влияний невозможно – невозможно даже достаточно точно осознать, от кого и в какой мере ты зависишь в своих писаниях, особенно если пишешь о Грузии, где можно подпасть под обаяние поэта, который вовсе тебе неведом, но чья просодия, что называется, витает в воздухе. Таким образом, отстраняясь от известных мне Анны Каландадзе и Нико Самадашвили, тщательно избегая соприкосновения с теплолюбивой восторженностью Пастернака, я все же, как ни старался, не смог избавиться от нескольких интонаций Мандельштама («Человек бывает старым, а барашек – молодым»). Но самое сильное и прямое влияние оказал на меня не вербальный, а визуальный ряд «Пасторали» Иоселиани – мне кажется, не заучи я эту ленту наизусть, я просто не увидел бы Алмати. А, возможно, всё же увидел бы. Но так или иначе, я благодарен Отару Иоселиани в той же мере, в какой бесконечно признателен Ламаре Кикнадзе, без рассказов и пояснений которой многим стихотворениям этого сборника просто неоткуда было бы взяться.
Январь 1986
С января 1986 года я ни слова не изменил в этом сборнике, решившись не примешивать к тогдашнему его настроению скорбного чувства вины и ответственности, которое после 9 апреля 1989 года вытеснило все прочие мысли и ощущения, связанные в моем представлении с родной для меня Грузией.
Апрель 1990
Чтоб уразуметь Алмати
должен видеть ты опору
всей долины Алазанской —
Алаверди храм среди
неба. Но его твердыня
без Алмати непонятна,
как дитя без материнства,
как кипенье без воды.
Далеко ли от Алмати
мир чужой и захребетный? —
Слушай, мир на то и мир он —
сам себя отыщет он.
Мир чужой от нас «имери»[14],
и в определенном смысле
всяк чужак – имеретинец,
кем бы не был наречен.
«Чуть исчезла солнца кромка…»
Чуть исчезла солнца кромка
яркая за кромкой горной,
в небесах раскрылись звезды,
как огромные глаза,
вспыхнула над Цинандали
и чуть дальше – над Телави
гроздь огней, что породила
алазанская лоза.
«С трех сторон вокруг Алмати…»
С трех сторон вокруг Алмати
бурых гор застыла буря,
и из-за одной восходит
солнце – ярким, полноцветным —
а садится за другую
так же вдруг, молниеносно —
долгих сумерек томленье
здешних душ не растлевает.
По-над впадиною речки,
над ночным шумком Инцобы
дом стоит последний или
самый первый дом в селенье —
в отдаленье от овечьей
тесноты строений прочих,
и Инцоба об Алмати
по его оконцу судит.
А названия окрестных
населенных пунктов, словно
прейскурант напитков славных —
кто же в оном не знаток? —
но не вина, а селенья —
Цинандали и Кварели
иль сельцо Напареули,
или Греми-городок.
«Храм в селе напротив – «Хмала»…»
Храм в селе напротив – «Хмала»
(«Меч») – так назван почему-то
небольшой и обветшалый
храм – на нем растут деревья
и кусты – служил недавно
он сторожкой… Что ж поделать:
хоть во всем мы столь не схожи,
все же мы – единоверцы.
«Где ж разрушенные храмы?..»
Где ж разрушенные храмы? —
на том свете, на том свете
они в Царствии небесном
пребывают неземны.
Где же тот, кто их разрушил? —
там же, где пребудет вечно
всяк свидетель разрушенья
дома, улицы, страны.
«Осень поздняя блаженна…»
Осень поздняя блаженна.
Урожай тяжелый собран.
И вино в огромных квеври[15],
по словам грузин, «кипит»,
словно лава в недрах з́емных —
та, что вырвавшись наружу,
как усталость замирает
в гор мозолистый гранит.
«На дворе ноябрь, но лето…»
На дворе ноябрь, но лето
еще теплится в Алмати.
Яблоки – в ветвях зеленых
и фонарики хурмы,
но чем выше, тем рыжее
горный лес, а выше иней,
выше – снег: чреда сезонов
вертикальна – до зимы.
Кабаны, медведи, лисы,
зайцы, серны – все со снегом
в горных зарослях столкнутся
вскоре и усвоят ясно
смысл его, как смерть, холодный,
но – дурная иль благая —
снега весть достигнет редко
обитателей долины.
«Вепри? – нет: за перевалом…»
Вепри? – нет: за перевалом
они кроются: лезгины
по старинке мусульманской
не едят свинину их…
Рай свиной! Эдем кабаний!
Нет земли обетованной
лишь бедняге человеку,
убивавшему святых.
«Ночь, конечно, очевидней…»
Ночь, конечно, очевидней
дня цветного. Кто же мрака
не заметит? Только ночью
нам вселенная видна.
В ночь отчетливее речи
той воды высокогорной
в час, когда душою чистой
с кем-то говорит она.
«За горой восточной где-то…»
За горой восточной где-то
встало утреннее солнце,
но еще лежит в Алмати
тьма ночная. И роса
полновесна. Гонит стадо
в темноте пастух. Но в небе
на глазах созвездья гаснут:
выцветают, как глаза.
От зимы зимою, братцы,
никуда нам не укрыться.
На вершинах гор окружных
снег лежит. Но он растает.
Лишь с шестым по счету снегом
настает зима в Алмати
теплая для нас – пришельцев
из страны шестого снега.
«Не видны – слышны скорее…»
Не видны – слышны скорее
гор аккорды – на октаву
или выше или ниже
горизонт неугомонный.
Этой музыкой от зренья
скрыта сини монотонность —
беспросветная пустыня
неприкаянного неба.
«Высоко на горных кручах…»
Высоко на горных кручах,
как шаман, кричит и скачет
о, почти отвесных речек
полудикая вода,
что влачится по долине
нищенкой в отребьях пены
с известью кавказской в сгибах
утомленного хребта.
«Но и здесь печальна осень…»
Но и здесь печальна осень.
В огородах чахнет чала[16].
Ночь приходит в гости рано
и гостит подолгу, но
еще с яблони могучей
не стряхнул мальчишка яблок,
и, как клад, уже зарыто
в землю новое вино.
«Почвы серой и зернистой…»
Почвы серой и зернистой
россыпи и впрямь златые.
Но дороже злата летом
серебристая вода:
меруэ[17] ее мгновенно
превратит в вино, как в Кане
Галилейской иль в сациви
превращает без труда.
Утро. Горы неподвижны.
Нежен свет. Какой-то малый
на околице деревни
зло швыряется камнями
в некую собаку – каждый
раз собака отбегает
от камней, но неизбежно
возвращается… В чем дело?
«Как в любой другой деревне…»
Как в любой другой деревне
укреплен среди Алмати
на столбах, для пытки годных,
лик великого тирана,
и глядит аляповато
на крестьян земляк великий,
что за общий счет написан
неким местным богомазом.
«Взобрался соседский мальчик…»