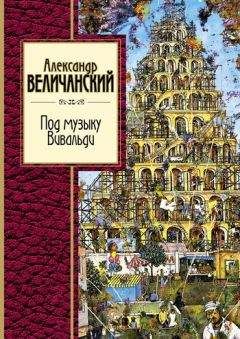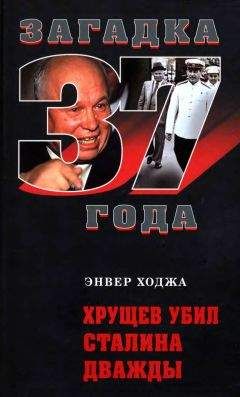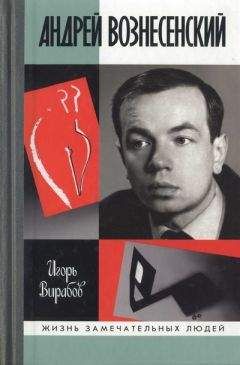«Знать теснее извне, чем внутри…»
Знать теснее извне, чем внутри,
храмы псковские, но до поры
в этот их первозданный секрет
нету входа и выхода нет —
не войдет, не воскликнет позор:
«в тесноте Ты давал мне простор»,
до пределов небесной красы
«в скорби распространил мя еси».
Чрез звонницы основу,
чрез мощный четверик,
как будто через слово,
мы смотрим через них,
и сквозь теснины-своды
мы видим скорбь-страну,
ак будто через воду
или через весну[12].
Пуста, аки бездна,
храмов старина —
вера БЕССЛОВЕСНАЯ
в ней заключена —
посильнее искуса,
попустей поста —
хоть извне неистова,
а внутри пуста.
«Расцвет – он мастера, как сок…»
Расцвет – он мастера, как сок,
всего всосет из почвы
и вместе с именем его
поглотит – не беда:
потусторонен, словно Бог,
творения воочью,
жив мастер – легкая стопа
во глубине следа.
Упадок-дока имена
творит: играет ими.
И за соломинку труда
напрасно ухватясь,
сам мастер до трясины дна
в свое уходит имя —
и лопаются пузыри
земли: поверхность, грязь.
По обету кончане
во един Божий день
«однодневку» кончали
деревянную – пень
от грядущего древа,
что повырастет здесь…
Однодневку напева
я сложу Тебе днесь[13].
Безымянные зодчие
вместо смертных имен своих
оставляли воочию
имена, духом полные —
имена ли предстателей,
имена ли всея святых,
имя ли Божьей Матери
или имя Господнее.
Из земли они восстали,
словно праведники после
гласа трубного, и трупно
тление преодолели:
как и праведникам круто,
как и праведникам вольно,
таково церквам округло,
таково краеугольно.
«У Пароменья в Примостье…»
У Пароменья в Примостье
лик ликуют слитки стен —
церкви белые, как кости —
мощей, превозмогших тлен.
И в укор нагим руинам
новостроек, древний Псков
не исходом, а зачином
мнится мне, времен исход.
На тесноте замешан
церквей съестной простор.
Ты не глядишь, а ешь их —
есть что-то от просфор
в их очертаний сдобе —
и пусть мой образ слеп,
но камень их съедобен,
как обращенный в хлеб.
Пусть проста простота,
но хитра:
от нее, как от зла
до добра.
В том секрет ремесла
сих церквей,
что добро проще зла,
хоть трудней.
«Жаль, что с нами не было…»
Жаль, что с нами не было
отца – до могилы —
золотой его мечтой
зодчество осталось.
Жаль, что с нами не было
дорогого друга
Севрюгина и его
детей златоглавых.
Кабы звезды виделись
среди бела дня.
Кабы храмы ставились
сами в одну ночь.
Кабы пели звонницы
без колоколов.
Кабы вера верилась
сама по себе.
Как во Пскове стоят
храмы древние
меж безбожных домов?
А вот так стоят:
ты и шаг не шагнешь,
а приблизишься,
ты рукой не подашь,
а заручишься.
Приложение
ПСКОВСКО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МАРТЕ 1969 ГОДА
Вот прошли мы Святые Ворота
за Николою Вр́атарем сразу,
словно из-под земли, вдруг явилась
всей обители глубь перед нами:
храм Успенья, огромная паперть…
Рядом с звонниц, церквей белизною
белый снег, белый свет не мирскими,
а иными казались. И в этой
белизне вдруг пред нами явился,
словно туча, отец благочинный
в облаченье воистину черном,
с черным взором, но взора чернее,
лик его обтекая, струились
влас ручьи и ручьи благочинной
бороды: в ней играл всякий локон
круто, властно и иконописно…
Но потом оказалось – не столь уж
был похож он на В. Соловьева,
как сперва нам со страху казалось —
нет, глаза его не полыхали,
а глядели упорно и глухо,
терпеливо, но ревностно (впрочем,
это сходство ему не пристало б
и по чину). Отец Александр
не способен был к мудрости – страстью
почитая ее (и не даром),
мыслил он только строгостью ясной,
незлобивой, покладистой даже —
и советы свои изрекая,
чуть похож он был на замполита,
что в политике вовсе не смыслит,
пьянству бой арьергардный давая.
Прост, как перст, был отец Александр —
лишь во время служения в храме
вдруг блаженно он преображался —
простота его делалась сложной —
здесь не брал прямотой он и ростом,
умалялся в предстательстве Слову,
и светлее, осмысленней, глубже
взор его становился… и краше
был Владимира он Соловьева.
Дьякон, с коим снег мы вывозили
с паперти за древние ворота,
уставал от молодости, силы,
долгих служб и свежести воздушной —
засыпал, санями правя – так что,
раз уж чуть мы не перевернулись,
за двоих грузил и разгружал я
свежий снег, чтоб дьякон отдышался.
И пока пластал я снег красивый,
в голубой овраг его бросая,
он, борясь со сном, его беседой
одолеть старался – бережливо
тратя голос низкий, каменистый,
странный без акустики церковной.
О себе распространялся мало
он, сказав лишь, что армейской службой
раз насытясь, обратился к Богу
и жалеет, что учился мало,
что хотел бы промысел Господень
он постичь в напастях всероссийских,
что в столице, чай, народ ученый
знает лучше, но и он, однако,
сам дошел до мысли, до догадки,
размыслив над злосчастьями страны —
мысль на морозе прозвучала кратко:
«Есть мученики и у сатаны».
Маленький, тряский.
В серой ряске.
Не по л́етам веселы
маленькие глазки.
Да и сам проворен
Не по летам —
по своим ста двум годам —
в жестах, в разговоре ль.
А и разговор-то
его птичий —
как по кочкам скачет речь
издалече.
Пел в Александринке
он при Александре
III. Тенором он пел
превысоким.
Был дороден Александр —
куды Николаю! —
я обоих видел сам,
а всё не помираю —
не берет меня Господь
до времен последних вплоть.
В первых числах марта
мартом и не пахнет —
снег февральский пышен,
лишь на зорьке пышет
попоздней, подольше
его хладобойня,
да голые ветви
разве что цветнее
стали – не начертаны
тускло, одномастно:
ожили оттенки
их замерзшей кожи —
лиловей, краснее
иль зеленоватей
стали. Но на месте
зимние морозы,
и в деревьях сонных сок
тоже неподвижен.
(Суть весны, художник,
в освещенье, в свете,
в воскрешении цветов
словно бы из мертвых).
Суть весны хотя бы
в том, что на морозе
в первых числах марта
августом не пахнет.
Оттого монахи
меж трудов и службы
слушают по кельям,
словно пенье птичье,
из «Спидол» пластмассовых
о зиме о Пражской
нездешние вести,
рассуждая чинно:
верит в Бога или нет
этот самый Дубчек.
(В том и сила звука,
что его оттенки
внятны нам и в темноте
в отличье от цвета).
Как и память за забвеньем,
так обитель за стеною,
за стеною нерушимой,
на которую Баторий
только зарился по-польски,
только блазнился по-пански.
Изовне стена крута —
выпускают ворота
только призраки безлики
из монастыря свят́а.
Безымянной братьи средь
два послушника безликих
мне придут на память впредь.
И один из них – юрод
напоказ псалмы поет,
напоказ же надрывая
в трудах праведных живот.
Звук заслышав богохульный
от хохлов-семинаристов,
он ближайшее к ним ухо
крестит, крестит ноздри, рот.
Щупловато, дико молод
и наследственно безлик,
он презрения немого
в братии к себе не зрит.
Он во храме станет так,
чтоб отец заметил всяк —
отвращает благочинный
от него свой взор в сердцах.
А другой послушник некий —
он намеренно безлик —
днем свою скрывает силу
за сноровкою труда
и усердие немое —
за подобием улыбки,
что скользнет, не выдав мысли,
и исчезнет без следа
на лице его пустынном,
как бесследная зима.
Он теряется во храме
многолюдства, но когда
засыпают в келье братья,
он легко и осторожно
поднимается к распятью,
молится почти безмолвно,
но как дневные труды,
словеса его упорно
бескорыстны и тверды.
Настоятель же отец Алипий
не глядел он полной глубиною
глаз своих, а щурился в пол-силы
и чуть-чуть хитрил, в улыбку пряча
от нелепых нас, от непричастных
страшное, как чудо, прямодушье,
что ему присуще было прямо —
пастырского посоха прямее.
Хороша была его усмешка:
он шутил над нашею мирскою
дурью, как родитель благодушный
над ребячьей шалостью пошутит,
не соря суровостью напрасно,
для себя всю строгость сберегая,
как хозяйка – питьице и ество
в ожиданье Гостя дорогого.