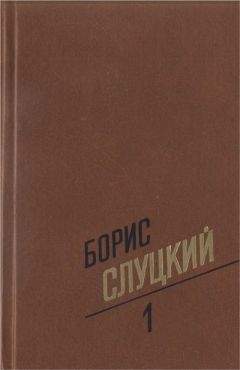«Сельвинский — брошенная зона…»
Сельвинский — брошенная зона
геологической разведки,
мильон квадратных километров
надежд, оставленных давно.
А был не полтора сезона,
три полноценных пятилетки,
вождь из вождей
и мэтр из мэтров.
Он нем! Как тех же лет кино.
Кино немое! Эту пленку
до Марса можно растянуть,
да только некому и некогда
и ни к чему ее тянуть.
Кино немое! Онемевшее
давным-давно,
когда к экранам звуковое
шумливо ринулось кино.
Я лекции за ним записывал.
Он выставлял отметки мне.
От мнения его зависело,
обедал я или же не.
Но ситуация — иная:
уроки сам теперь даю,
Сельвинского не вспоминаю
и каждый день обедаю.
Да, демон отлетался. Маршал
отвоевался. Стих муссон.
Увидит и рукою машет,
сердечно радуется он.
А я душевно и сердечно
рад, что он рад. Рад, что он бодр.
Рад, что безбедно и беспечно
он сыт, одет, обут и горд.
Пять строк в истории всемирной,
листок — в истории родной
поэзии. Лукав, как мирный
чеченец. (Правильней: «мирно́й».)
Раздумчив, напряжен, обидчив,
в политике довольно сбивчив,
в поэтике отлично тверд,
одет, обут, и сыт, и горд.
Учитель! К счастью ль, к сожаленью,
учился — я, он — поучал.
А я не отличался ленью.
Он многое в меня вкачал.
Он до сих пор неровно дышит
к тому, что я в стихах толку.
Недаром мне на книгах пишет:
любимому ученику.
По воле или по неволе
мы эту дань отдать должны.
Мы не вольны в семье и в школе,
в учителях мы не вольны.
Учение: в нем есть порука
взаимная, как на войне.
Мы отвечаем друг за друга.
Его колотят — больно мне.
«Было много жалости и горечи…»
Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.
Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.
Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.
Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.
Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,
что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.
Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.
Она не все говорила,
но почти все говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.
Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.
И пусть сначала для славы,
только потом — для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а все-таки он качался,
качался и не кончался,
качался и не отчаивался,
каялся, но не закаивался.
«Когда маячишь на эстраде…»
Когда маячишь на эстраде
не суеты и славы ради,
не чтобы за нос провести,
а чтобы слово пронести,
сперва — молчат. А что ж ты думал:
прочел, проговорил стихи
и, как пылинку с локтя, сдунул
своей профессии грехи?
Будь счастлив этим недоверьем.
Плати, как честный человек,
за недовесы, недомеры
своих талантливых коллег.
Плати вперед, сполна, натурой,
без торгу отпускай в кредит
тому, кто, хмурый и понурый,
во тьме безмысленно сидит.
Проси его поверить снова,
что обесчещенное слово
готово кровью смыть позор.
Заставь его ввязаться в спор,
чтоб — слушал. Пусть сперва со злобой,
но слушал, слышал и внимал,
чтоб вдумывался, понимал
своей башкою крутолобой.
И зарабатывай хлопо́к —
как обрабатывают хло́пок.
О, как легко ходить в холопах,
как трудно уклоняться вбок.
«Умер человек, не собиравшийся»
Умер человек, не собиравшийся,
не предполагавший умереть.
Гром из тучи, над другим собравшейся,
предпочел его с земли стереть.
Шел он, огибая и минуя,
уклоняясь, ускользая, шел,
но судьбу ничто не обмануло,
и чужой конец его нашел.
В долгий ящик, в длинный ящик гроба
сунуты надежды и дела.
Как надежного он жаждал крова!
Как ему могила подошла.
«Самоубийство — храбрость труса…»
Самоубийство — храбрость труса,
а может быть — и просто храбрость,
когда ломается от груза
сухих костей пустая дряблость.
Самоубийство — это бегство,
но из тюрьмы в освобожденье,
всех клятв — и юности и детства —
одним ударом — исполнение.
Одним рывком — бросок в свободу,
минуя месяцы и годы,
минуя все огни и воды
и медные трубопроводы.
Самоубийства или войны,
на мостовой или в больнице —
у мертвецов всегда спокойны,
достойны и довольны лица.
А Блока выселили перед смертью.
Шло уплотнение, и Блока уплотнили.
Он книги продавал и перелистывал,
и складывал, и перевязывал.
Огромную, давно неремонтированную
и неметеную квартиру жизни
он перед смертью вымыл, вымел, вымерял,
налаживал и обревизовал.
Я помню стол внезапно умершего
поэта Николая Заболоцкого.
Порядок был на письменном столе.
Все черновое было уничтожено.
Все беловое было упорядочено,
перепечатано и вычитано.
И черный, торжественный, парадный
костюм, заказанный заранее,
поспел в тот день.
Растерянный портной
со свертком в дрогнувших руках
смотрел на важного, спокойного
поэта Николая Алексеевича,
в порядке, в чистой глаженой пижаме
лежащего на вымытом полу.
Порядок!
«Самоубийцы самодержавно…»
Самоубийцы самодержавно,
без консультаций и утверждении,
жизнь, принадлежащую миру,
реквизируют в свою пользу.
Не согласовав с начальством,
не предупредив соседей,
не выписавшись, не снявшись с учета,
не выключив газа и света,
выезжают из жизни.
Это нарушает порядок,
и всегда нарушало.
Поэтому их штрафуют,
например, не упоминают
в тех обоймах, перечнях, списках,
из которых с такой охотой
удирали самоубийцы.
Когда наконец докажется
существованье бога
и даже местоположенье,
координаты его —
одновременно выяснится,
что толку с него — немного,
а если сказать по совести,
то вовсе всего-ничего.
Окажется: бог сам по себе,
а мы, точно так же, сами по себе.
У нас — своя забота.
У бога работа своя.
И ничего не изменится
в его судьбе
и в нашей судьбе.
Лишь резче обозначатся
его и наши края.
И станет еще прохладнее
в холодной междупланетности.
И станет еще нахальнее
на наших материках,
когда наконец окажется,
что нечего богу нам нести,
окажется, что оказываемся
мы с богом — в дураках.
«Пляшем, как железные опилки…»