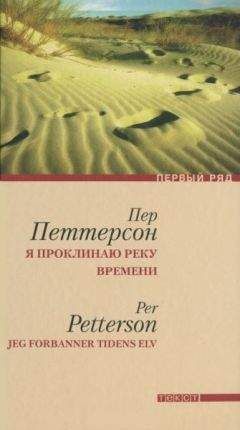10(9)
Понятно, ветка эта не сирень.
И я с тобой несчастлив, как в пустыне
Ты на бархане от верблюда тень
Горбатый груз несущая гордыни.
Дюк Элингтон, как август на дворе
Уводит караван из тучи. Синий,
Несчастен я – песок в глухой дыре
Без серебра мираж, как алюминий.
Эпоха аллюминиевой любви
Настала. Граф Шувалов зря ты плохо
Так судишь о стекле, графин увы
Стеклянен, граф, а вилка, граф… Эпоха
Слез горьких аллюминиевого Феба
(В виду имеет автор звезды неба.)
(В виду имеет автор звезды неба.)
Когда о бабах пишет налегке,
Иль о восходе, где с похмелья репа
Трещит, (сказать на русском языке.)
Где б ни был повод, к звездам он взывает
К антеннам Бога, заводным ушам
Высот, и в душах звезды назревают
У тех, кто хочет с небом по душам.
И автор сам, хоть он и затаился,
Надеется на тихий разговор
В нем, как в прудах, то месяц засребрился
В глазах души, то чиркнул метеор,
То воробей – от крошек, шли мол, все бы,
Или какой кошмар в саду Эреба.
Или какой кошмар в саду Эреба.
Привидится мне вдруг в твоих чертах
Кому-то нужен он, а нам не треба
Личинок видеть в скрученных листках,
Которые по свету осень носит
В моих бордовых северных садах
Где радуюсь, где рифма есть не просит,
Нет нужды ей, как птице в червяках,
Она решает строчек поединок,
Порой роняет молча пистолет,
Не доказав всю каверзность блондинок,
Иль сядет вдруг в романский триолет
И едет по накатанной со мной,
А то вдруг вспомню Ленинград ночной.
А то вдруг вспомню Ленинград ночной.
И самолет, вернувшийся из Сочи,
И дождь домашний, затяжной, родной,
И те глаза, в которых видел очи
Иль поздний чай, крепчае чем вино,
А коль без диалекта – южной ночи
Тот запашистей чай, пьяным оно,
Сердечушко, пьяно, прости нас, Отче.
Велик Господь, он милосерд, но прав,
(Здесь строки Боратынского Евгения)
Прощает он безумию забав,
Но никогда – пирам злоумышления.
И дышит стих печалью неземной,
Как летчик самолета над тайгой.
Как летчик самолета над тайгой.
Видавший вид дождя, штормов, пожара,
Видавший виды, бабой став Ягой
И Яшу Проппа напугав до жара,
До крика, фюзеляж дрожит сухой,
И рваных молний голубеют жала,
И бабка костяной сама собой
Стучит ногой, чтоб ступка не сбежала.
Скажи мне, летчик, где же ты живешь,
Где правда у тебя, что ты за ложь
Купил, душевных судорог ценою?
(Е. Боратынский), поделись со мною.
И говорит мне голос не земной:
И здесь и в Петербурге я чужой.
И здесь и в Петербурге я чужой.
Себе и остальным. Я заключенный.
В себя. Навеки разлучен с любой
Душой. Перед Землей, перед иконой
Я жгу свою лампаду, шаг земной,
А в легких тихий воздух небосклонный
Колышется невидимой волной
И веткою свисает благосклонной
Цветам числа нет, или счесть их лень
Понятно, ветка эта не сирень,
В виду имеет автор звезды неба
Или какой кошмар в саду Эреба.
А то вдруг вспомню Ленинград ночной,
Как летчик самолета над тайгой.
Как летчик самолета над тайгой.
Как ас, чей дым весомей разговоров
Шепну, нет, я не Пушкин, я другой,
Шофер, не «волг», но пламенных моторов
Шофер сердец, с чьей трассой неземной
Знаком, как с вкусом многих Беломоров
Елецк, Моршанск, Москва курились мной
И дым их не был ни здоров не здоров.
Подумать, «Беломор» не Черномор,
Не крал Людмилы, что ж за ним гоняться?
И сравнивать на сладость дым просторов
Отечества? На этот приговор
Не станет летчик даже извиняться,
Когда динамик хрюкнет, что твой боров.
Когда динамик хрюкнет, что твой боров,
Урицкого обидит моего,
Я напишу на каждом из заборов:
Один за всех, и все до одного!
И де Тервиль, всей роте мушкетеров
Жрать запретит лягушек, ничего,
Он скажет, понимаю Вас, Егоров,
Хотите жабу. Ан, не comme il faut!
Жаб мне не жрать, понятно, остолопы,
Не то хуй вас дождутся пенелопы.
Я закатаю в сральню вас, друг мой,
И вас, друзья мои, мсье, дрючте баб
Уж лучше. Кто вчерась дрыща от жаб
Испортил связь, оглушен, знашь, вьюгой.
Испортил связь, оглушен, знашь вьюгой.
Промеж времен, как глаз, моряк
Кронштадтский
И распят был на льду душой нагой,
И ленточки на венчике так адски
Звенят у бескозырки козырной.
Все снова как-то вышло по-дурацки
Вновь, Ольга, дежавю мое со мной —
Рояль… На беленький ледок кривляться
Да выпал, падла, беленький снежок,
Да трупики мотросские, как надо
Запастерначил, за стежком стежок
Вот мой бокал, чьих губ на нем помада?
Оль, ты зачем пила? Нам хватит споров,
Являюсь я лишь зрителем приборов.
Являюсь я лишь зрителем приборов.
Которые принадлежат не мне,
Они принадлежат другим, в которых
Струячит жизнь, которые во сне
Восходят на белейший из линкоров
И уплывают по лучу в окне,
Проникшему с утра в разрез на шторах,
Чтоб осветить лежащих в глубине
Детей мечты, когда-то затонувших,
Руками жадно обнимая снасть,
Чья жизнь теперь лишь повесть лет минувших
В которые рассудку не упасть
С поднебесья ни бомбой ни строкой
Мне облачность забила видовой.
Мне облачность забила видовой
Учебник, и закрыла панорамы
На коих был нагляден так герой
Любой строки немой российской драмы
Где был предъявлен грешник и святой
Где всяк поймет, что господа не дамы,
Где Брюсов дострадался ерундой,
Что в вазы Зимнего насрали хамы.
Теперь конечно стало ничего,
Когда б не новорусское блядво,
Когда б в тумане меньше дирижеров,
Которых нет, и до ре ми фа соль —
Какая боль, какая ж, Ольга, боль —
Простор, погода выказала норов.
Простор, погода выказала норов.
На уровне трав полевых – мой кар,
Я вижу пятна шляпок мухоморов
В лицо мне мчится смерти перегар
Белесый подполковник из майоров
Брательник. Но поэт не есть Икар.
Лик матери взволнован, бледен, стар
Когда б вы знали, из каких же соров
Взлетает в поднебесье по дуге
Душа, когда выходит из пике
Истории, любившей умноженье
О, радуга, о, спектр разложенья
Веранда, свет оконный, свет свечной
Куда летишь ты, самолетик мой?
Куда летишь ты, самолетик мой?
Мой мотылечек. За стекло глубоко
В коричневатый, сочный день живой
Скажи там солнцу, чтоб взошло с востока,
И больше ничего. Живи, родной,
Гораздо больше выданного срока,
И будь всегда в строке моей со мной,
В строке моей со мной не одиноко
Янтарь и жемчуг стоят ремесла
Но ты, в чьих крыльях рифма ожила
Достоин даже дуновенья Бога,
Который создал все живое, строго
Сказать. Сядь кладезю времен на ворот.
Какой тебя, сиротка примет город?
Какой тебя, сиротка, примет город?
Какая ж тебя вынесет земля,
Теперь, когда сковал потоки холод
И души в проруби – на мотыля?
Ввысь прыгнула душа, чей рот распорот
Крюком Петра и Павла. Боже мой, —
Душа сказала, жабры вскрыв, мне холод
Полезней духоты подледяной
Я больше не хочу быть акварелью
Душа сказала, быть собой учусь
Поэт, не сравнивай меня с форелью
Иначе я душевно огорчусь.
Куда же я взлетела наугад?
Не Китежбург ли прошлый Ленинград?
Не Китежбург ли прошлый Ленинград?
Вокруг меня, реальней чем мы сами
Не здесь ли колыбельные творят
Все гусляры с тресковыми усами,
Не здесь ли пивом алкаша поят,
Не здесь ли, околдован небесами,
Подросток на вокзале под часами
Той самой девочке тот самый взгляд
Отдаст, постой, Кола Бельды, олени
Я помню этто чудное мгновенье
Орет Высоцкий жаренным жерлом
Кать. Катя. Катерина два с жезлом,
Весна. Исакий гордой головою
Сокрывшийся под ладожской водою.
Сокрывшийся под ладожской водою.
И дух над ней. И дождь над ней. Потоп.
Прощай, любимый город, все родное,
Уходим завтра в море, пушка хлоп!
И сизый голубь на ладони горя
Хлебнувшего матроса, только столп
Александрийский, ангел в чистом море,
Как в чистом поле, крест кладет на гроб
Ликуй, Москва, отличена ордою
Подавлено восстание тверское,
Но что теперь? Уж сколько лет. А зим?
И Китеж для Орды неотразим
Смотри в глаза воде и прячь свой взгляд,
Чтоб ни германоговорящий гад…
Чтоб ни германоговорящий гад…
Наш вересковый мед доить не взялся
Я побеседовать с тобою рад
Вот я на голову твою и взялся
Ты видишь, не совсем аристократ,
Но и не с улицы, не навязался
Не привязался, да, немного гад,
Но был свиньей. Был, был, а не казался,
А не казался-зался, был свиньей,
А НЕ КАЗАЛСЯ. Но болтун какой.
Слилась Москва, туманно вечерея
С блондинкою, вдовой полу-еврея
В эпоху, когда чуть отец родной
Не вполз на Невский, с гусениц ордой.