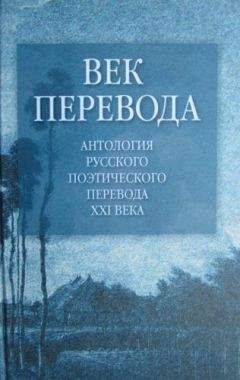СЕРЫЙ ЦВЕТ
Глядя на сероватый опал,
Я вспомнил прекрасные серые глаза.
Которые видел когда-то: кажется,
Лет двадцать назад.
Наша любовь длилась месяц,
Потом он уехал,
Если не ошибаюсь, в Смирну —
На работу, и больше мы с ним не виделись.
Если он жив — серые глаза поблекли;
Красивое лицо, должно быть, подурнело.
Память моя, сохрани эти глаза такими, какими они были;
О память, сколько ты в силах,
Удержи для меня от той любви!
Сколь возможно точный нарисуй мне сегодня ее образ…
Когда ведут тебя воспоминания
На кладбище, склони колена
Перед святою тайной с должным тщанием,
Пред темным будущим всего, что тленно.
Все к Господу направь искания,
Внемли!
Сон вечен в узком ложе, здесь, в лоне осененной
Христовой милостию земли.
Здесь тихое свое благословение
Дает надгробиям смиренным
Родная вера, чуждая стремлению
Язычества к уборам драгоценным.
Даров ненужных позлащения
Вдали,
Сон вечен в узком ложе, здесь, в лоне осененной
Христовой милостию земли.
Душа, будь в стороне от блеска славы,
Обуздывай порывы честолюбья.
А если им противиться не сможешь,
Будь осторожна — и чем ближе к цели,
Тем больше в каждом шаге сомневайся.
И в миг расцвета — стал уже ты Цезарь,
Твой новый облик стал известен всем;
Когда на улицу со свитой выйдешь,
Всех затмевая, — будь настороже:
Быть может, из толпы к тебе шагнет
Артемидор какой-нибудь, письмо
Тебе протянет: «Прочитай немедля!
О деле пишут, важном для тебя…»
Остановись, не премини оставить
Тотчас любое дело и беседу;
Пусть разойдутся те, кто на поклон
К тебе спешит: ты их еще успеешь
Увидеть позже; может подождать
Сенат, — а ты внимательно прочтешь
Посланье важное Артемидора.
Не любит кошек люд простой. Их волшебство, их тайна
Для недалекого ума — мученье. Он не в силах
Движений прелесть оценить случайных,
Повадок… [………………………………………….]
[]
[………………………………………………………….]
Но гордость кошки есть душа и суть ее от века,
Свобода — плоть и кровь ее. Она не опускает
Свои глаза под взглядом человека.
Покрыта тайной жизнь ее страстей;
Она всегда спокойна, и сияет
Опрятностью, и позы принимает
Изящные. Всё выдает в ней тонкость восприятья
Нетронутую. Вот она мечтает или дремлет, —
Какая отстраненность! Созерцать ей
Дано иное — может статься, внемлет
Она теням, из древности пришедшим; может статься,
Видения ведут ее в Бубастис — процветал
Там храм ее, и фараон шел кошке поклоняться,
И в каждой позе жрец грядущее читал.
Преображенных голосов родных
Звучание: одних мы схоронили…
Как мертвых, мы утратили иных.
Порой во сне они к нам обратятся;
Порой мы размышляем — и в мозгу
Они вдруг раздаются, возвращая
Поэзию младенчества на миг —
Ряд звуков, что как музыка в ночи:
Угасшая, поющая вполсилы.
Hosper ou basileus, all'hypokrites,
metamphiennytai chlamyda phaian
anti tes tragikes ekeines, kai dialathon
hypechoresen.[10]
Как македоняне оставить трон
Ему велели, Пирра предпочтя,
Деметрий, царь (он обладал вполне
Величием душевным) не по-царски —
Так говорят — себя повел. Ушел он,
И золотое одеянье снял,
И сбросил сапоги пурпурной кожи,
В простое платье быстро облачился
И в путь отправился. Он поступил
Словно актер, что после представленья
Переоденется — и прочь уходит.
ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ (1896–1981)
Пережидая полдень, бледен, сосредоточен,
Под раскаленной стеною сада;
Слушая трель дрозда, слыша, как змеи точат
Землю среди терновых
Побегов где-то рядом,
В трещинках глины или на стеблях вики
Буду следить за длинною чередою
Красных муравьев, что под дрожащие вскрики
Цикад то ссорятся, то взбираются гурьбою
На холмики глины и водят хороводы.
А там, за зеленью, слышен моря трепет,
И чешуею его покрыты воды;
И с голых скал летит скрипичный лепет
Кузнечиков. На слепящем солнце,
Идя вдоль стенки, что сверху украшают
В осколках острых бутылочные донца, —
Что в этом — жизнь и всё ее томленье,
Я вновь почувствую с грустным удивленьем.
РОБЕРТ СТИВЕН ХОКЕР (1804–1875)
Откуда ты, нежданный гость светил?
В каких глубинах божества рожден?
Кто ореол твой светом напоил,
Кем на просторах мира ты зажжен?
Зачем явился, странник высоты?
Какой оракул возвещаешь нам?
Паденье ль царств провозглашаешь ты,
Развеяв свиток свой по небесам?
Иль тьму духов в себе ты заключил,
В мехах кузнечных ада раскален,
Чей плен — огонь, чей сторож — Азраил,
И грешниками мир твой населен?
Трон падшего архангела, твой свет —
Не битвы ль след в ужасной вышине,
Знак омраченных горечью побед,
Триумфа пленник в темной глубине.
Но нет! Ты — бог и сеятель высот,
И горсть твоя младых миров полна,
Всё далее стремишь ты свой полет,
А вслед течет лучистых солнц волна.
Вперед лети! Но, как ты ни могуч,
Своей ты не покинешь колеи,
И ни единый самовольный луч
Не озарит знамения твои;
Всесильного Владыки раб! Пускай
Как ночь твой лик, и нимб твой, как восток,
Стремителен и грозен, — воссияй:
Ты — лишь лампада, коей светит Бог!
РОБЕРТ БРИДЖЕС (1844–1930)
Спал город, и летучий снег явился
Средь темных стен — огромных хлопьев роем,
Безмолвно, без конца, легко ложился.
И, позднее движенье городское,
Дремотный гул предместий заглушая
Шел медленною пеленой сквозною,
На крышах и оградах оседая,
Различья скрыв любые под собой
И в каждый угол исподволь вплывая.
К утру покров семь дюймов толщиной
Лежал повсюду, легок, чист, нехожен
Под ясной и морозною зарей.
И все проснулись раньше, так встревожен
Был город этой ясностью нежданной.
Был блеск для глаз почти что невозможен
И уху тишина казалась странной —
Ни криков, ни шагов, ни экипажей,
Вот дети, обжигая льдистой манной
Язык и горсти — огневой поклажей
Снежка, дивятся по дороге в школу
На дерево в уборе белой пряжи,
И ну в сугроб! — И в сутолке веселой
Кричат: «Ты на деревья погляди!»
Почти что пуст заснеженный проселок,
Бредут крестьяне — кто-то позади,
А кто вперед ушел, идут нескоро,
Хоть тачки налегке, — а впереди
Под солнцем бледным пробудился город,
Поднявшимся в лучистом ореоле,
Над куполом громадного собора,
Открыты двери, каждый поневоле
Нетронутым снегам грозит войною
И отмечает путь к дневной юдоли
На белом фоне темною тропою;
Но и они на миг сложили бремя
Тревоги и трудов перед такою
Внезапной красотой, и смолкли, и
Распались чары тяжкие на время.