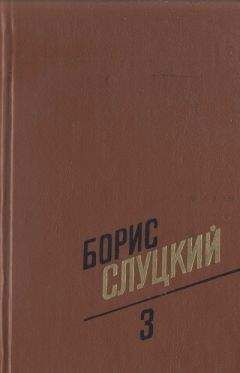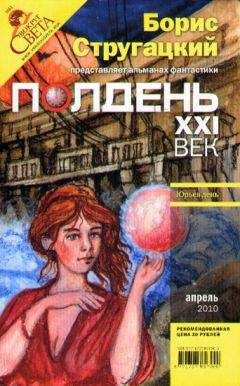МЕТР ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА
Женский рост — метр восемьдесят два!
Многие поклонники, едва
доходя до плеч,
соображали,
что смешно смотреть со стороны,
что ходить за нею — не должны.
Но, сообразивши, продолжали.
Гордою пленительною статью,
взоров победительною властью,
даже,
в клеточку с горошком,
платьем
выделялась —
к счастью и к несчастью.
Город занял враг
войны в начале.
Продолжалось это года два.
Понимаете, что же означали
красота
и метр восемьдесят два?
Многие красавицы, помельче
ростом,
длили тихое житье.
Метр восемьдесят два,
ее пометя,
с головою выдавал ее.
С головою выдавал
вражьему, мужчинскому наскоку,
спрятаться ей не давал
за чужими спинами нисколько.
Город был — прифронтовой,
полный солдатни,
до женщин жадной.
Как ей было
с гордой головой,
выглядевшей Орлеанской Жанной,
исхудавшей, но еще живой?
Есть понятие — величье духа,
и еще понятье — голодуха.
Есть понятье — совесть, честь,
и старуха мать — понятье есть.
В сорок третьем, в августе, когда
город был освобожден, я сразу
забежал к ней. Помню фразу:
горе — не беда!
Ямой черною за ней зияли
эти года два,
а глаза светились и сияли
с высоты метр восемьдесят два.
Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем,
мне известным уже три месяца
Себастьяном Барбье.
На ничейной земле, в проломе
замка старого, на соломе,
в обгорелом лежим тряпье.
До того мы оба устали,
что анкеты наши — детали
незначительные в той большой,
в той инстанции грандиозной,
окончательной и серьезной,
что зовется судьбой и душой.
До того мы устали оба,
от сугроба и до сугроба
целый день пробродив напролет,
до того мы с ним утомились,
что пришли и сразу свалились,
Я прилег. Он рядом прилег.
Верю я его антифашизму
или нет — ни силы, ни жизни
ни на что. Только б спать и спать.
Я проснусь. Я вскочу среди ночи —
Себастьян храпит что есть мочи.
Я заваливаюсь опять.
Я немедленно спать заваливаюсь.
Тотчас в сон глубокий проваливаюсь.
Сон — о Дне Победы, где, пьян
от вина и от счастья полного,
до полуночи, да, до полночи
он ликует со мной, Себастьян.
К ПЕРЕСМОТРУ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Сгинь! Умри! Сводя во гневе брови,
требуют не нюхавшие крови
у стоявших по плечи в крови:
— Сгинь! Умри! И больше не живи!
Воевал ты, да не так, не эдак,
как Суворов, твой великий предок,
совмещавший с милосердьем пыл.
И Кутузов гениальней был.
Ты нарушил правила морали!
Все, что ты разрушил, не пора ли
правежом взыскать! И — до рубля!
Носит же таких сыра земля!
Слушают тоскливо ветераны,
что они злодеи и тираны,
и что надо наказать порок,
и что надо преподать урок.
Думают они, что в самом деле
сгоряча они недоглядели
и недоучли в пылу атак,
что не эдак надо бы, не так!
Впрочем, перетакивать не будем,
а сыра земля по сердцу людям,
что в манере руд или корней
года по четыре жили в ней.
«Хорошо было на войне!..»
Хорошо было на войне!
Тепло
по весне,
морозно — зимой.
Это, кажется, безвозвратно прошло,
только я вернулся домой.
Хорошо было на войне!
Держись
до конца. Отступать — не смей.
Но и жизнь на войне — настоящая жизнь.
Но и смерть — настоящая смерть.
Хорошо было на войне.
С тех пор
так прекрасно не было мне.
Подводя итог, я до сути допер:
хорошо было на войне.
На фронте, в штабах, месяц службы
считался за три.
На передовой месяц службы
считали за год.
И только в тылу месяц службы
считали за месяц.
Но даже в тылу было ясно,
что месяц — это месяц.
В армии подполковник
был ниже всех полковников
и выше всех майоров.
Будучи майором,
я был выше всех капитанов,
так же как все капитаны
выше всех лейтенантов.
Ордена и медали
с нашивками за ранение,
конечно, вносили поправки,
но не нарушали системы.
Демобилизовавшись,
я выломился из старейшей
знаковой системы,
что старше всех алфавитов.
Я начинал сначала,
я действовал с иероглифами
размытыми, хуже меток
на простынях больничных.
В самом деле,
что такое
хорошая рифма?
И если договориться
о том, что это такое,
то все-таки что такое
хорошее чувство?
И что такое поэзия,
пусть даже не хорошая,
а просто — поэзия?
Какие знаки различия
носит Медный Всадник?
Я ночной таксист. По любому
знаку, крику
я торможу,
открываю дверцу любому,
и любого я отвожу.
Я обслуживаю стихами,
как таксист — такси,
всех подряд,
а расплачиваются — пустяками,
очень скупо благодарят.
Я — ночной таксист. Среди ночи,
пополуночи
в мрак и тьму
тормозну на крик что есть мочи,
и открою дверцу ему.
Кто он, этот читатель ночной,
для чего я ему понадобился,
может быть, он просто полакомился
занимательной строчкой одной?
Может быть, того не планируя,
я своею глухою лирою
дал ответ на глухой вопрос,
до которого он дорос?
Я ночной таксист. За спиной
пассажир словоохотливый,
видный в зеркало очень отчетливо,
поболтать он хочет со мной.
И хвала и хула,
но не похвала и не ругань,
а такая хвала и такая хула,
что кругами расходится на всю округу
то малиновый звон,
то набатные колокола.
Выбирая пооскорбительней фразы
или пообольстительнее слова,
опускали так сразу,
поднимали так сразу,
так что еле душа оставалась жива.
Всякий раз, когда кто-нибудь разорется
или же разольется воспитанным соловьем,
почему же — я думал — он не разберется.
Сели, что ли, бы рядом, почитали вдвоем.
Но хвала нарастала,
и в темпе обвала
вслед за нею немедля
хула прибывала.
А когда убывала
поспешно хвала,
тоже в темпе обвала
ревела хула.
Раскачали качели,
измаяли маятник.
То заметен ты еле,
то как временный памятник.
День-деньской,
весь свой век
то ты грязь,
то ты князь,
то ты вниз,
то ты вверх.
Из листка,
ураганом, сорвавшим листок,
и тебя по морям-океанам мотает:
то метет тебя с запада на восток
или с юга на север тебя заметает.