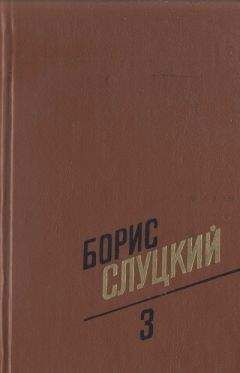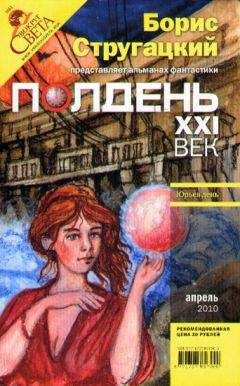ХВАЛА И ХУЛА
И хвала и хула,
но не похвала и не ругань,
а такая хвала и такая хула,
что кругами расходится на всю округу
то малиновый звон,
то набатные колокола.
Выбирая пооскорбительней фразы
или пообольстительнее слова,
опускали так сразу,
поднимали так сразу,
так что еле душа оставалась жива.
Всякий раз, когда кто-нибудь разорется
или же разольется воспитанным соловьем,
почему же — я думал — он не разберется.
Сели, что ли, бы рядом, почитали вдвоем.
Но хвала нарастала,
и в темпе обвала
вслед за нею немедля
хула прибывала.
А когда убывала
поспешно хвала,
тоже в темпе обвала
ревела хула.
Раскачали качели,
измаяли маятник.
То заметен ты еле,
то как временный памятник.
День-деньской,
весь свой век
то ты грязь,
то ты князь,
то ты вниз,
то ты вверх.
Из листка,
ураганом, сорвавшим листок,
и тебя по морям-океанам мотает:
то метет тебя с запада на восток
или с юга на север тебя заметает.
Унижения
в самом низу,
тем не менее
я несу
и другие воспоминания:
было время — любили меня,
было легкое бремя признания,
когда был и я злобой дня.
В записях тех лет подневных,
в дневниках позапрошлых эпох
есть немало добрых и гневных
слов о том, как хорош я и плох.
Люди возраста определенного,
ныне зрелого, прежде зеленого,
могут до конца своих дней
вдруг обмолвиться строчкой моей.
И поскольку я верю в спираль,
на каком-то витке повторится
время то, когда в рифме и в ритме
был я слово, и честь, и мораль.
Я это только я. Не больше.
Но, между прочим, и не меньше.
Мне, между прочим, чужого не надо,
но своего отдавать не желаю.
Каждый делает то, что может,
иногда — сто три процента.
Требовать сто четыре процента
или сто пять довольно странно:
я это только я. Не больше.
Но, между прочим, и не меньше.
Раза три, а точней, четыре
прыгал я выше лба своего же.
Как это получалось — не знаю,
но параметры и нормативы
выполнялись, перевыполнялись,
завышались и возвышались.
— Во дает, — обо мне говорили
самые обыкновенные люди,
а необыкновенные люди
говорили: «Сверх ожиданья!»
Это было заснято на пленку.
Пленку многократно крутили.
При просмотре было ясно:
я это только я. Не больше.
Но рекорд был все же поставлен,
но прыжок был все-таки сделан.
Так что я все-таки больше,
пусть немного, чем думали люди.
Рядовым в ряду,
строевым в строю
общую беду
лично, как свою,
общий груз задач
на себе таскал,
а своих удач
личных — не искал.
Человек в толпе,
человек толпы —
если он в тепле,
и ему теплы
все четыре угла
его площади,
жизнь его прошла
как на площади.
На виду у всех
его век прошел.
Когда выпал снег —
и его замел.
И его замел
этот самый снег,
тот, что шел и шел,
шел и шел навек.
«Умелая рука гробовщика…»
Умелая рука гробовщика
вытаскивает тело старика,
холодное и бедное. Нагое.
В пространства бесконечные песка
уткнулась чахлая река
и захлебнулась мне на горе.
Река устала и ушла в песок,
и жилка, что трясла его висок,
устала и угомонилась.
Еще вчера она пыталась, билась,
синела.
Высох слабенький поток.
И разговоры недоговорив,
беседы не закончив мягкой шуткой,
недоперелиставши словари,
он замолкает. Словно на минутку.
Сначала на минутку. На часок,
а после — на год,
а потом — на вечность,
и речка, что сперва ушла в песок,
потом течет тихонько в бесконечность,
в дом отдыха, где есть кино и душ,
но фильмов — нету и воде — не литься,
где столько стариковских душ
пытаются тихонько веселиться.
«Обжили ад: котлы для отопления…»
Обжили ад: котлы для отопления,
для освещенья угли.
Присматривай теперь без утомленья,
чтоб не потухли.
Зола и шлак пошли на шлакоблоки,
и выстроили дом.
Итак, дела теперь совсем не плохи,
хоть верится с трудом.
Не цифрами, а буквами. Точней,
конечно, цифра. Буква — человечней.
Болезненный, немолодой, увечный
находит выраженье только в ней.
А цифра — бессердечная метла.
Недаром богадельня и больница
так любит слово, так боится,
так опасается числа.
«Как ни взвесьте, как ни мерьте…»
Как ни взвесьте, как ни мерьте,
по прямой — кратчайший путь.
С точки жизни к точке смерти,
может, все-таки свернуть?
Нет, не выйдет по обочине.
По прямой. Со всеми прочими!
По асфальту, по шоссе!
Напрямик, как едут все!
Сзади пулемет врага,
пули метят в хвост и в гриву.
Впереди метет пурга,
огненная буря взрыва.
Впереди стоит машина
с ящиками небольшими.
В каждом ящике — снаряд.
Эти ящики — горят.
И покуда канонада
до костей не проберет,
прорываться надо, надо!
Я командую: вперед!
И машина между двух
взрывов
мчится во весь дух.
И осколков брызг стальной
в темпе марша или вальса
не поделает со мной
ничего.
И я — прорвался.
Ни пуха не было, ни пера.
Пера еще меньше было, чем пуха.
Но жизнь и трогательна и добра,
как в лагере геодезистов — стряпуха.
Она и займет и перезаймет,
и — глядь — и зимует и перезимует.
Она тебя на заметку возьмет
и не запамятует, не забудет.
Она, упираясь руками в бока,
с улыбкою простоит века,
но если в котле у нее полбыка —
не пожалеет тебе куска.
А пух еще отрастет, и перо
уже отрастает, уже отрастает,
и воля к полету опять нарастает,
как поезда шум в московском метро.
«Когда ухудшились мои дела…»
Когда ухудшились мои дела
и прямо вниз дорожка повела,
я перечел изящную словесность —
всю лирику, снискавшую известность,
и лирика мне, нет, не помогла.
Я выслушал однообразный вой
и стон томительный всей мировой
поэзии. От этих тристий, жалоб
повеситься, пожалуй, не мешало б
и с крыши броситься вниз головой.
Как редко радость слышались и смех!
Оказывается, что у них у всех,
куда ни глянь, оковы и вериги,
бичи и тернии. Захлопнув книги,
я должен был искать других утех.
«Господи, Федор Михалыч…»
Господи, Федор Михалыч,
я ошибался, грешил.
Грешен я самую малость,
но повиниться решил.
Господи, Лев Николаич,
нищ и бессовестен я.
Мне только радости — славить
блеск твоего бытия.
Боже, Владимир Владимыч,
я отвратительней всех.
Словом скажу твоим: «Вымучь!»
Вынь из меня этот грех!
Трудно мне с вами и не о чем.
Строгие вы господа.
Вот с Александром Сергеичем
проще и грех не беда.
«Читая параллельно много книг…»