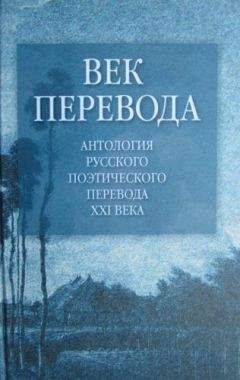ЧЕСЛАВ МИЛОШ (1911–2004)
Вплывает, в глубинах зеркальных качаясь,
Мелодия вальса в сверкающий зал.
Смотри — в канделябрах, в дымы облачаясь,
Колышутся свечи. И тянется бал…
Там пыль розовеет — иль яблонь цветенье?
Подсолнухи-трубы сияют, чисты.
И руки — распятья, и плечи — сплетенье,
Стекло с белизною — среди черноты…
Пространство в круженьи летит безмятежном.
И перья, и жемчуг, и гул голосов!
Зажмурены очи… И с шелестом нежным
Шелк тела коснется… И шепот, и зов.
Десятого года часы истекают,
Часы водяные отмерили срок…
Час гнева настанет, смерть жертвы взалкает
И с огненным древом взойдет на порог.
А где-то — поэту на свет появиться.
О них его песня — но им не слышна.
Дорогою млечной ночь в хаты струится,
И лаем собачьим деревня полна…
Поэт лишь родится — его еще нету.
О нем ты не знаешь — но кружишься с ним…
Навеки прекрасна, в легенды одета,
Вплетаешься в войны, и в битвы, и в дым.
История — бездна. Из бездны кровавой
Он шепчет на ушко тебе — не гляди!
Там лик — в ореоле печали и славы…
То вальс — или слезы застыли в груди?
В прозреньи внезапном раздвинь эти шторы.
Вальс в золоте листьев ползет тяжело.
Там мир незнакомый, чужие просторы,
И ветер холодный стучится в стекло…
Зимнее поле желтым озарилось,
Ночь оборвалась, небо приоткрылось.
Мечутся люди — крик несется смертный,
Крика не слышишь — видишь на губах.
Снежное поле тянется до неба,
Полное смерти — кровь его румянит.
Каждый упавший камнем сразу станет…
Солнце дымится — пыль к ногам летит…
Пленные строем шагают вдоль речки,
Над чернотою — лед белый, колючий,
А над водою, за синею тучей
Бич в красных отблесках солнца.
Там, в той шеренге, бредущей в молчаньи,
Сын твой, ты видишь. Лицо всё разбито,
И ухмыляется рот приоткрытый.
Кричи! Он — счастливый в неволе!
Знаешь, ведь есть у страданья граница.
Губы в улыбке навек застывают,
Люди проходят — и вдруг забывают,
Зачем они шли и откуда.
В скотском покое приходит прозренье.
Облако, звезды, заря догорает…
Мол, не умру я, хоть все умирают, —
И медленно, медленно гибнет.
…Забудь же! В круженьи стремятся навстречу
Цветы, канделябры, сиянье зеркал!
И вальс наплывает. Колышутся свечи,
И взгляды, и шепот, и радость, и бал.
Пусть руки чужие тебя не коснутся.
Венера восходит и тонет в заре.
На цыпочки встань — зеркалам улыбнуться.
Бубенчики. Санки. Рассвет на дворе…
Сыпал снег. Дорогой торной
Чародей шагал проворно.
Виселицы остов черный
Вдруг его открылся взору.
И качаются три вора.
— Ну, ребята, как вам славно
На ветру качаться плавно!
Я сниму вас, уврачую,
С вами рядом заночую. —
Прошептал свое заклятье —
Хоп! Стоят рядком, как братья.
Сели все кружком во мраке,
Шеи дружно поправляют,
Чародея восхваляют.
Первый вор — черней собаки,
И плечо ногой накрыто,
Борода сто лет небрита.
А второй — с башкою драной,
На ноге на деревянной,
Третий — Боже правый, где ты?
— Лед в глазах, а сам — раздетый,
Иней на лице сереет,
Тело — лишь сосульки греют.
— Воскресил я вас. Воруя,
Путь свой далее держите.
Нынче жизнь я вам дарую,
Вы ж мне верно послужите.
Выпьем тут же, в чистом поле.
После — отоспимся вволю.
Вражье племя, мчитесь дружно —
Раздобудьте всё, что нужно!
Хлеб сюда, вино, постели! —
Словно птицы, полетели,
Ветром мимо просвистели.
Что за посвист разудалый!
Первый вор слетал куда-то:
— У вдовы забрал я нищей
Ту перинку. Счастье вору!
Спал на ней ребенок малый —
Нам-то, чай, коротковата!
— Не волнуйся! Будет впору!
Молодчина ты, дружище! —
И колдун, хозяйство множа,
Сотворил четыре ложа.
Где-то в небе ветер легкий
Прошуршал, как плач далекий.
Тут второй примчался с кружкой:
— Вот вино. Я ночью вьюжной
Ловко в шкаф залез, где служка
Спрятал всё, что к мессе нужно.
Но боюсь, что будет мало.
— Нам скупиться не пристало! —
Чародей опять колдует.
Бочки встали в ряд. И дует
Ветер алчный что есть мочи,
Словно волки среди ночи.
Третий вор спешит, ликуя:
— Вот облатка! В ночь такую
У священника украсть я
Смог — больному нес в ненастье
Для последнего причастья.
— Что ж, приятель, это счастье,
Коль другого нету хлеба. —
Вдруг грозой разверзлось небо!
Воздух глиною сгустился,
Вихрем буйным закрутился,
И земля вся задрожала.
Что стояло, что лежало —
Улетает. Шелухою
Братство вознеслось лихое,
Только вздох раздался длинный.
Вдруг — всё стихло над долиной.
Холодно. В тиши морозной
День вплывает из-за бора.
Виселица — тенью грозной.
А на ней — четыре вора.
ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ (1901–1986)
Дождем над полем искры льются.
Ах! Ненадолго остаются!
И город спит, — но кто впотьмах,
В тот час, когда судьбу я вижу,
Следит за мной? Всё ближе, ближе…
Это страх.
Мне нравилось бежать с дружками
В Иванов день за светляками,
Ботву пиная без стыда!
Но руки девичьи коснутся —
И, значит, больше не вернуться
Мне туда.
Обманут трижды. И склонится,
Смеясь, над ним звезда-блудница, —
Но плач сопутствует ему.
Тебе — благословенье свыше,
Град беглых. Благодарность слышу.
Ни к чему.
I
Когда бы нам в бульоне первобытном
остаться сгустком плазмы. Круговерть
смешала бы в одном настое сытном
зачатье и рожденье, жизнь и смерть.
Планктоном стать или песком бархана
во власти ветра — это благодать.
Глаз стрекозы или крыло баклана
так совершенны, что должны страдать.
II
Презренны все житейские итоги,
Рассчитывать на лучшее смешно.
Воистину, мы все больные боги,
а думаем, что верим в Бога, но —
спокойна бухта. Лес — в листве шуршащей.
В тяжелых звездных гроздьях небосвод.
Скользит пантера непроглядной чащей.
Всё это — берег. Вечна жажда вод…
Исчезло Я в разрывах стратосферы
жертва ионов — облученный штамм —
поля, частицы; вечности химеры
застыли в сером камне Нотр-Дам.
Уходят дни — ни вечера, ни утра,
стоят года, — ни палый лист, ни снег
того не скроют, что бессрочна сутра,
а мир — побег.
Где путь твой, где конец пути, где мера
исчерпанности, полноты —
играет тьма кристаллом Агасфера:
в его решетках протекаешь ты.
Агаты звезд — как колотые раны,
джунгли смертей — как почва бытия,
народы, судьбы, битвы, Каталауны
заглатывает бездна с острия.
Заброшен мир. Сквозная человечность,
пространство-время вяжущая в жгут,
есть функция, с пределом бесконечность,
а мифы лгут.
Откуда и куда? Ни ночь, ни утро.
За здравие? За упокой?
Спросить ответ у веры было б мудро, —
Но у какой?
О, если все мыслители о Боге
помыслят и склонятся к одному,
и пастыри, и паства, все в итоге
причастием с себя омоют тьму,
вино стечет, как кровь из общей раны,
и стол один — преломит хлеб семья, —
о, этот вкус, о, этот час осанны,
когда найдешь потерянное Я.