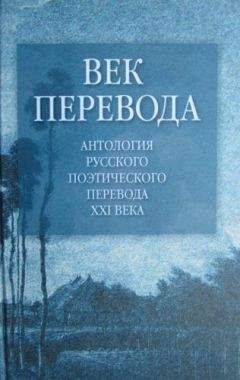***
Исчезло Я в разрывах стратосферы
жертва ионов — облученный штамм —
поля, частицы; вечности химеры
застыли в сером камне Нотр-Дам.
Уходят дни — ни вечера, ни утра,
стоят года, — ни палый лист, ни снег
того не скроют, что бессрочна сутра,
а мир — побег.
Где путь твой, где конец пути, где мера
исчерпанности, полноты —
играет тьма кристаллом Агасфера:
в его решетках протекаешь ты.
Агаты звезд — как колотые раны,
джунгли смертей — как почва бытия,
народы, судьбы, битвы, Каталауны
заглатывает бездна с острия.
Заброшен мир. Сквозная человечность,
пространство-время вяжущая в жгут,
есть функция, с пределом бесконечность,
а мифы лгут.
Откуда и куда? Ни ночь, ни утро.
За здравие? За упокой?
Спросить ответ у веры было б мудро, —
Но у какой?
О, если все мыслители о Боге
помыслят и склонятся к одному,
и пастыри, и паства, все в итоге
причастием с себя омоют тьму,
вино стечет, как кровь из общей раны,
и стол один — преломит хлеб семья, —
о, этот вкус, о, этот час осанны,
когда найдешь потерянное Я.
Устав, наконец, от созданья
бесчисленных мифологем,
ничто не избегнет страданья
под вечным вопросом: зачем?
И спрашивая без зазренья,
возьмешь много позже в толк,
что есть лишь одно: терпенье —
от смысла, от веры, от рвенья —
судьбою навязанный: долг!
Проходят под гибельным знаком
розы, снега, моря,
есть две только вещи: вакуум
и меченный атом — Я.
Нет одиночества полней,
чем в августе, — вид урожая,
пожаром красок угрожая,
не трогает души твоей.
Светлы озера под луной,
поля чисты, пусты аллеи,
но где победы, где трофеи
царств, предначертанных тобой?
Броженье плоти, винный дух,
здесь, где оправданы рожденья
успехом самоутвержденья, —
ты выбрал пораженье — Дух.
Цюрих представьте, к примеру,
город обычный вполне.
Можно ли чистую веру
черпать в его глубине?
Или же, бредя Гаваной,
ждешь, что один ее вид
белой и розовой манной
жажду твою утолит?
Станция, площадь, аллея,
пляжи, руины, мосты, —
даже потокам Бродвея
общей не скрыть пустоты.
Ну и зачем ты плутаешь?
Путаешь только себя.
Стой — ты еще испытаешь
явь безграничного Я.
Ваши этюды,
арпеджио, хорал
копируют причуды
подержанных лекал.
Свою имеет ноту
простой вороний грай —
был глуп, имел работу:
ну, чем тебе не рай.
Сакрального вокала
красив речитатив,
однако у шакала
есть тоже свой мотив.
Ax, призрачны литавры,
и караул во фрунт,
невидимые лавры
там, где под тоном грунт.
Мимолетный, дай глазам сомкнуться,
всё одно проиграно пари,
вечером в пивной не шелохнутся,
хоть ты, с места не сходя, умри.
Вдруг сидит мертвец за стойкой бара,
адвокат с красавицей вдовой,
год назад скончавшись от удара,
снова пьет, здоровый и живой.
Вот ведь и цветы уже стояли,
кем-то принесенные с полей,
сорок лет назад, пока увяли,
знает бог, в какой из летних дней.
Всё живет, в чем старая основа
проявляет новые черты,
всё проходит, чтоб начаться снова…
Ну, а ты —?
Снова нас покинул праздник лета,
Где-то в поздних грозах уничтожен,
От дождей и от скупого света
Запах леса горек и тревожен.
Безвременник канет безвозвратно,
Снят боровика тугой огузок,
Дол, еще вчера невероятно
Светлый и широкий, станет узок.
Станет узок этот мир, прогнозы
Горечь и тревогу отмечают,
Мы уже готовы встретить грозы,
Те, что жизни летний сон кончают!
Позволь мне разувериться, в себе,
Но не в тебе!
Позволь от многих бед с дороги сбиться
Позволь огнем страдания напиться
Позволь мне, Господи, позор,
Ни в гору подняться,
Ни в горе держаться!
Но только выгорит зазор,
Яви себя,
Дай знать, что это ты,
Тот, кто возжег костер до высоты,
Я в это мгновенье,
Найду облегченье,
И смерть, как выход из тебя.
МАКС-ГЕРМАН НАЙССЕ (1886–1941)
Ледяные фигуры в бородах патриархов
на ветру прорастают иголками тьмы,
очутившись среди расцветающих парков,
как отставшая свита зимы.
Так беспомощны эти покатые плечи,
так готовы обрушиться в зелень травы,
молодые побеги паденьем калеча
от беспочвенной злобы… увы.
Обивая с каштанов нежнейшие свечки,
над невинностью почек глумясь,
они чувствуют власть —
эти сверхчеловечки,
когда топчут цветение в грязь.
Но посреди разгула и разбоя
в них вдруг растает стержень бытия,
и к нам придет дыхание покоя
после минуты черной забытья.
ГЕРТРУДА КОЛЬМАР (1898–1943)
Ступает тигр своей дневной тропою.
В скольких верстах?
Тропа, петляя, выйдет к водопою
В чужих местах.
Железо прутьев: мир, что был снаружи,
Перенесен,
Среди нужды и зимней стужи
Он — только сон.
Скользнет домой: давно родного края
Забыта речь.
Теснит и мучит клетка, продолжая
Его стеречь.
Слепая боль всегда одна и та же
В нем говорит,
Он золотой свечой в полосках сажи
Дотла однажды догорит.
Усталость так на мне лежит теперь
Как золотой и мягкий крупный зверь.
Под нами разрастается клубок.
Зверь смотрит тихо. Взгляд его глубок.
Мне тяжесть так сжимает больно грудь,
Что невозможно воздуха глотнуть.
И воткнут коготь, как веретено.
Сочится мак. Всё мраком сплетено.
Не видно ничего — вращение и бег
Кругов павлиньих на изнанке век.
Лицо теряется. В нем каменеет яд.
Внутрь осторожно мой повернут взгляд.
Он разрастается, становится плотней,
Чернеет пасть: он пропадает в ней.
Он камень, замурованный в стене.
Он сам в себе. Лишь изредка извне
Усталость мягко поскребется в дверь,
Как мелкий, нежно-серебристый зверь.
Глазная роговица
Свет отразит, отбросит мрак;
Ее не ранит птица
Пером, звеневшим на ветрах.
Не оком карамболи
Изогнут роговой покров:
Зрачок, привыкший к соли,
Следит за танцами китов.
Мой глаз открыт навеки,
И, раз ему заказан сон,
Того не скроют веки,
Во что не хочет верить он.
В моей гортани сухо,
Когда молю спасти от мук,
Стучит в чужое ухо
Ударов сердца мерный звук.
Сдержав в груди рыданья,
Я, как заботливая мать,
Берусь из состраданья
Баркас разбитый пеленать,
Царевич пьет со стоном
Желто-зеленый хлад волос:
Ничто увядшим лоном
Не зачалось, не родилось.
Между седых утесов
Грохочет волнами прибой,
И крики альбатросов
Петлей на лоб ложатся мой,
Прибой как вечность гложет,
Исчезнуть в пене, пену смыть:
Тот умереть не может,
Кому в веках бесплодным быть.