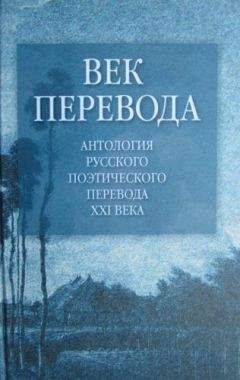Владислав Резвый{33}
РОБЕРТ ГРЕЙВЗ (1895–1985)
СТАРИК ИЗ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ЛЕГИОНА
«Оставь вино, прислушайся, Страбон:
Шагает двадцать третий легион».
Старик-центурион при сих словах
Отвел глаза от кубка и в сердцах
Об стол ударил кулачищем: «Нет!
Тот легион пропал — простыл и след!
Все в первый год сражений полегли,
А мертвым не подняться из земли.
Хоть в Риме помнят павших сыновей,
Нам сострадание куда нужней.
Мы, миновав и стрелы, и полон,
Любуемся на новый легион:
Лентяи, трусы, слабаки, ворье,
Ни меч держать не могут, ни копье!
Отвага, честь и сила — где они?
Увы, теперь не то, что в оны дни:
Свиные рыла бродят у окна.
Вот так-то, Гракх. Налей еще вина!»
Ответил Гракх: «Ты не в себе, Страбон.
Опомнись. Легион есть легион.
Ты их ругаешь, пьяный, как Силен, —
Но пьянством не добьешься перемен.
Страбон, доверься им. Покуда Рим
На месте — легион непобедим.
И в осень этот самый легион
Погонит Верцингеторикса вон!»
РОБЕРТ УИЛЬЯМ СЕРВИС (1874–1958)
Женившись, я попал в зятья
К хозяину пивной.
Старик помре — и нынче я
Кабатчик записной.
Стою за стойкою — толстяк
С сигарою зажженной,
А сбоку — шепот: «Не пустяк:
Пивнуху — в жены!»
Но что за жизнь с моей женой:
Свободе путь закрыв,
Смирять приходится любой
Естественный порыв.
Какой скандал!.. Ну, пощипал
Служанку за бутоны…
Будь проклят день, когда я взял
Пивнуху в жены!
Я — главный в «Золотой свинье»,
Я — «мистер», хошь не хошь.
Хоть пива вдосталь — в питие
Веселья ни на грош.
Кто должен хлеб свой добывать
В поту, всех благ лишенный,
Избави Господи вас брать
Пивнуху в жены!
БАЛЛАДА О БЕЗБОЖНИКЕ БИЛЛЕ
Порешили на том, что Билл Маккай будет мной погребен,
Где бы, когда и с какой беды ни откинул копыта он.
Отдаст он концы при полной луне или погожим деньком;
На танцульках, в хижине иль в погребке; в сапогах он иль босиком;
В бархатной тундре, на голой скале, на быстрине, в ледниках,
Во мраке каньона, в топи болот, под лавиной, в хищных клыках;
От счастья, пули, бубонной чумы; тверезым, навеселе, —
Я на Библии клялся: где бы он ни скончался — найду и предам земле.
Лежать абы как не желал Маккай, не так-то Безбожник прост:
Газон, цветник ему подавай и высшего сорта погост.
Где он помрет, от чего помрет — большая ли в том беда!..
Но эпитафия над головой — без этого нам никуда…
На том и сошлись; за услугу он хорошей деньгой заплатил
(Которую, впрочем, я тем же днем в злачных местах просадил).
И вывел я на сосновой доске: «Здесь покоится Билл Маккай»,
Повесил на стену в хибарке своей — ну, а дальше жди-поджидай.
Как-то некая скво ни с того ни с сего завела со мной разговор:
Мол, чьи-то пожитки лежат давно за кряжем Бараньих гор,
А в хижине у перевала чужак от мороза насмерть застыл
И валяется там один как перст. Я смекнул: не иначе — Билл.
Тут и вспомнил я про наш уговор, и с полки достал, скорбя,
Черный с дощечкой серебряной гроб, что выбрал Билл для себя.
Я набил его выпивкой да жратвой, в санях разместил кое-как
И пустился в путь на исходе дня, погоняя своих собак.
Представь: мороз в Юконской глуши — под семьдесят ниже нуля;
Змеятся коряги под коркой снегов, спины свои кругля;
Сосны в лесной тишине хрустят, словно кто-то открыл пальбу;
И, намерзая на капюшон, сосульки липнут ко лбу;
Причудливо светятся небеса, прорежены серым дымком.
Если вдруг металл до кожи достал — обжигает кипящим плевком;
Стынет в стеклянном шарике ртуть; и мороз, убийце под стать,
Идет по пятам, — вот в такой денек поплелся я Билла искать.
Гробовой тишиной, как стеной сплошной, окруженный со всех сторон,
Слеп и угрюм, я брел наобум сквозь пустынный жестокий Юкон.
Я дурел, я зверел в полярной глуши, — западни, что таит она.
И житье в снегах на свой риск и страх лишь сардо вкусил сполна.
На Север по компасу… Зыбким сном река, равнина и пик
Проносились чредой, но стоило мне задремать — исчезали вмиг.
Река, равнина, могучий пик, словно пламенем озарен, —
Поневоле решишь, что воочью зришь пред собою Господень трон.
На Север, по проклятой Богом земле, что как черт страшна для хапуг…
Чертыханье мое да собачье вытье — и больше ни звука вокруг.
Вот и хибарка на склоне холма. Дверь толкнул я что было сил
И ступил во мглу: на голом полу лежал, распластавшись, Билл.
Плотным саваном белый лед закопченные стены облек,
Печку, кровать и всё вокруг искрящийся лед обволок.
Сверкающий лед на груди мертвеца, кристаллики льда в волосах,
Лед на пальцах и в сердце лед, лед в остеклелых глазах, —
Ледяным бревном на полу ледяном валялся, конечности — врозь.
Поглазел я на труп и на крохотный гроб, что переть мне туда пришлось,
И промолвил: «Билл пошутить любил, но — черт бы его загреб! —
Надо бы думать о ближних своих, когда выбираешь гроб!»
Доводилось в полярной хибарке стоять, где вечный царит покой,
С крохотным гробиком шесть на три и насмерть заевшей тоской?
Доводилось у мерзлого трупа сидеть, что как будто оскалил пасть
И нахально ржет: «Сто потов сойдет — не сумеешь во гроб покласть!»
Я не из тех, кто сдается легко, — но как я подавлен был,
Покуда сидел, растерявшись вконец, и глазел на труп, как дебил.
Наконец разогнал я пинками собак, нюхавших всё кругом,
Затеплил трескучее пламя в печи и возиться стал с мертвяком.
Я тринадцать дней топил и топил, да только впустую, видать:
Всё одно не смог ни рук, ни ног согнуть ему хоть на пядь.
Наконец решил: «Даже если мне штабелями дрова палить —
Этот черт упрямый не ляжет прямо; придется его… пилить».
И тогда я беднягу четвертовал, а засим уложил, скорбя,
В черный с дощечкой серебряной гроб, что выбрал Билл для себя.
В горле комок, — я насилу смог удержаться, чтоб не всплакнуть;
Гроб забил, на сани взвалил и поплелся в обратный путь.
В глубокой и узкой могилке Билл, согласно контракту, лежит,
Выжидая, покуда на Страшный суд побредет златокопов синклит.
А я иногда удивляюсь, пыхтя трубкой при свете дня:
Неужто на ужас, содеянный мной, взаправду хватило меня?
И только лишь проповедник начнет о Законе Божьем скулить —
Я о Билле думаю и о том… как трудно было пилить.
КРУГОВОЙ ТАНЕЦ МОЛОТОГЛАВОВ
Под жирафьей мимозой в тени
где всё реже и реже
я в грезах влачу мои ночи и дни,
в дреме молитвенных бормотаний
о детях и внуках,
затерянных в городском океане, —
вестник смерти — молотоглав
вьется, кружится, пропитанье
выискивая у канав.
Хрипло кряча, клюв раскоряча,
лягушек, рыбешек
ловит в воде стоячей;
мирно пасутся быки в стороне,
а он из подводных течений
души предков таскает мне.
В стайку слетаются ближе к ночи
молотоглавы — и на воде
танцуют, гибель пророча:
шажками, прыжками по глади снуют
на лапках-ходулях,
крыльями, словно трещотками, бьют,
сливаются с небом сухие алоэ,
дрожит окоем,
в месиво преображаясь гнилое;
и вот уже всё без остатка в жерло
времен бесконечных
крыльями ночи смело.
Я увижу, лишь сон с ресниц отряхну,
бурого молотоглава
и в кругах на воде — луну,
и, в танце времен закружиться готов,
мой двойник неизвестный ознаменует
смерть равнин и смерть городов.
КРАСНАЯ ПТИЦА, БЕЛАЯ ПТИЦА