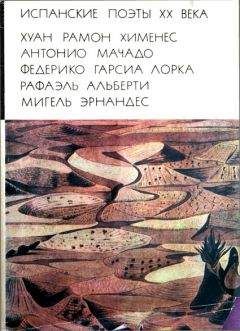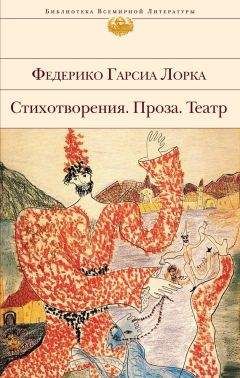ПЕСНИ К ГИОМАР{97}
Перевод Ю. Петрова
I
Что в ладони твоей,
разглядеть я не мог:
то ли желтый лимон, полный летних лучей,
то ли ниточка светлого дня?
О моя Гиомар, золотистый комок,
улыбалась ты для меня.
Я спросил: «Что же это такое?
Это время, которое стало лимоном?»
Он был выбран твоею рукою
из всего, что вырастил сад.
То напрасное время, когда с небосклоном
не хотел разлучиться чудесный закат?
Одиночества жар, колдовской, золотистый?
Отраженный в спящей воде силуэт?
От горы до горы раскаленный рассвет
истый?
Зеркала,
где смутны и неясны черты
декораций той темноты, что
любовью разбита была?
II
Мне снилась ты над рекою
в глубинах высокого сада,
сад времени замкнут, спокоен,
крепка, холодна ограда.
Какая-то странная птица
поет и нежно и жадно
там, где святость ручья струится,
сама — вся ручей, вся жажда.
С тобой, Гиомар, мы сами,
с тобою, моя родная,
придумали сад сердцами…
Друг друга там наполняя,
часы сочетаются наши,
гроздья снов мы, их сок, их налив
выжимаем в чистые чаши,
мира двойственность позабыв.
(В нем и то, что и ты и я —
как газель и лев, но своя
для обоих тропа к водопою;
в нем и то, что любви судьбою
не дано стать счастливым сном:
одиночества два в одном
сочетанье меня с тобою.)
Тебе моря творят буруны в пене,
и радуга — сиянье над горами,
фазан рассветный — пенье, оперенье,
сова творит очей огромных пламя —
тебе, о Гиомар!
III
Мысль твоего поэта
с тобою. У небосклона —
дали лимонного цвета,
а поле — бледно-зелено.
Гиомар, с тобою в пути мы,
нас вбирает нагорье сонно,
и уходит неотвратимо
по деревьям день утомленный.
Поезд рельсы и день пожирает,
дрок скрывается, тени прямы,
вечер движется и стирает
позолоту с Гуадаррамы.
И любовник с богиней юной
убегает, и яшмой лунной
провожает их небосвод
в путь, и поезда отзвук чугунный
канул в дебри горных высот.
Поле пусто, и небо строго,
а вдали, за грядой гранита,
за базальтовым отрогом
бесконечность с морями слита.
Мы свободны, ибо мы вместе.
Даже если тиран незрячий —
бог — пугает свирепой местью,
угрожая нам неудачей,
и на яростном вихре скачет,
и уздою, как скакуна,
укрощает разум горячий —
все напрасно, любовь вольна.
—
Пишу из кельи путника сегодня,
в минуту встречи, выдуманной мною.
У ветра ливень радугою отнят,
а у горы — страдание земное.
На старой башне солнце догорает.
О вечер тот, с живым, спокойным светом,
сказавший, что ничто не умирает, —
тот вечер, что любим твоим поэтом!
И юный день — смуглы его колени,
глаза светлы — и в роще, под дубами,
над родником о страсти размышленье —
к твоей груди прижаться, губ губами
касаться! Все в апрельском свете реет,
все во вчерашнем нынче, все в Доныне,
где стройно и легко минуты зреют
и плавно переходят в сумрак синий,
в поющий полдень, в длящееся время,
в тот хор, где рассветает, вечереет…
…Тебе— моя тоска, моя пустыня.
НОВЫЕ ПЕСНИ К ГИОМАР
Перевод Ю. Петрова
I
Лишь твой образ, лишь ты,
как молнии вспышка
средь моей темноты!
На море, где, словно жар,
обжигает песок золотой,
так внезапно тело твое, Гиомар,
с его розовой смуглотой!
В тюрьме, на серой стене,
или в нищей гостинице голой,
во всем, что встретится мне, —
только ветер и только твой голос;
в серьгах твоих на лице моем,
в холоде их перламутра,
в дрожи, в ознобе горячечном, злом
безумного утра;
на моле, куда за ударом удар
сновиденья рушатся бурей,
и под пасмурной аркой бессонницы хмурой —
всюду ты, Гиомар.
Посмотри, как тобой я наказан,
а повинен лишь в том, что тебя
сам я создал, сам сотворил я, любя,
и любовью навек теперь связан.
II
Выдумкой всякая страсть живет:
сама назначает себе черед —
час свой, и день, и год,
влюбленного выдумает, а вслед
возлюбленную, приносящую счастье;
но если возлюбленной не было, нет —
это не значит, что не было страсти.
СМЕРТЬ АБЕЛЯ МАРТИНА
Перевод А. Гелескула
Он решил, но видя света,
что господь отводит взгляд,
и подумал: «Песня спета.
Что дано, взято назад».
Хуан де Майрена. «Эпиграммы»
I
Последние стрижи над колокольней
на небе, по-вечернему глубоком.
Ребячий гомон у ограды школьной.
В углу своем Абель, забытый богом.
Потемки, пыль и темная терраса
и крики, полосующие плетью,
в канун его двенадцатого часа
на рубеже пятидесятилетья!
—
О, полнота души и скудость духа
над гаснущим камином,
где слабый жар потрескивает сухо
и отсветом костра сторожевого
стекает по морщинам!
—
Сказал он: — Безысходен путь живого.
О, дали, дали! Скрасит бездорожье
одна звезда в зените.
Кто до нее дотянется? И все же —
кто без нее решится на отплытье?
Далекий флагман! Даль даруя взгляду
и сердцу — полноту исчезновенья,
ты придаешь целительному яду
вкус нежности, священное забвенье.
Великое Ничто, твоей загадки
лишь человек касается как равный.
Снотворный ключ, губительный, но сладкий,
божественная тень руки державной!
Предвечный свет — немеркнущий и зрячий —
увижу, нет ли, выйдя к перепутью,
но заглуши галдеж этот ребячий
небытием, Господь, — своею сутью!
II
Встал ангел перед ним. Мартин поспешно
дал несколько монет — нашлись на счастье.
По долгу милосердия? Конечно.
Пугаясь вымогательства? Отчасти.
А сердце одиночеством терзалось,
какого не изведал он доныне.
Господь не видит — так ему казалось,
и брел он по немой своей пустыне.
III
И увидал тень музы нелюдимой,
своей судьбы, не тронутой любовью, —
вошла навеки чуждой и любимой
и, траурная, встала к изголовью.
Сказал Абель: — Отшельница ночная,
чтоб увидать тебя без покрывала,
дожил я до зари. Теперь я знаю,
что ты не та, какой мне представала.
Но прежде чем уйти и не вернуться,
благодарю за все, что отшумело,
и за надменный холод… —
Улыбнуться
хотела ему смерть — и не сумела.
IV
Я жил, я спал, я видел сны и даже
творил, — подумал он, теряя зренье.
В тумане снов стоящему на страже
снови́денье дороже сновиденья.
Но к одному итогу
приходят и сновидец и дозорный,
и кто торит дорогу
и кто спешит по торной,
и если все подобно сновиденью,
то лишь Ничто — господнее творенье,
закрытых век отброшенное тенью
на вечный свет божественного зренья.
V
И за тоской нахлынула усталость.
Иссохшею гортанью
он ощутил, как ядом пропиталось
отравленное время ожиданья.
Цевница смерти!
Слабою рукою
он тела онемелого коснулся.
Кровь забытья, безволие покоя!
А тот, кому все видно, — отвернулся?
Воззри, Господь!
Дни жизни с ее снами,
воскресшие во мраке,
на мягком воске стыли письменами.
И новый день растопит эти знаки?
Зажегся на балконе
рассветный луч безоблачного лета.
Абель поднял молящие ладони.
Слепой, просил он света
и наугад тянулся к нему телом.
Потом — уже безмолвный —
поднес бокал к губам похолоделым,
глубокой тьмой — такой глубокой! — полный.