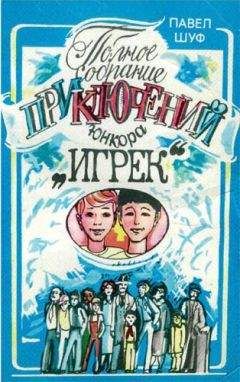оставив мне только
вмятину в обивке софы,
запах духов
и кастрюлю котлет.
Осень ходит по дому,
скрипя половицами,
и заглядывает в шкафы,
и садится в кресло-качалку,
в которое садилась ты,
прося почитать стихи...
Софа скоро сбросит с себя твой силуэт.
Ветер выгонит из дому запах духов.
Котлеты я съем.
Мне на память останется только память -
одинокая тусклая память -
и мой зарифмованный бред...
Сегодня утром я проснулся, а тебя -
нет.
Спи, ангел мой, почи в лазури сновидений.
Забудь свои года и не считай мгновений,
Что падают во тьму слезами палача.
Как поминальная горит в углу свеча...
Спи... Нет ни дней, ни лет, ни правды, ни сомнений.
Остались лишь: любовь - царица преступлений;
Мечта, подаренная с царского плеча;
Надежда - глупая ужимка циркача;
И память как оскал нелепых наваждений.
Горит в огне душа, безумно хохоча;
И падает звезда в колючий шорох терний...
Угаснет жизнь в глазах несозданных творений,
И мраморная пыль, как нежная парча,
Покроет лики их... Навеки... Спи, мой гений,
Спи, ангел мой, почи в лазури сновидений.
Накуралесила, ети,
Навздыбила шальная вьюга...
И мы опять зовем друг друга,
Друг друга растеряв в пути.
Не разорвать порочность круга,
Не выйти за предел мечты.
Я к северу иду, а ты -
А ты опять в плену у юга.
Дойдя до края, до черты,
Мы, в узел связанные туго, -
Над пропастью. Как два недуга.
Как две усталых маеты.
Мы убегали от испуга
Пред ясной сутью простоты,
И в шуме вечной суеты
Сыграв, затихла наша фуга.
И что теперь?.. Из немоты,
Звучащей колко и упруго,
Задумчивая безнадюга
Нам строит стены пустоты...
Из заколдованного круга
Не выбраться, как ни крути...
Накуролесила, ети,
Навздыбила шальная вьюга.
Твоя душа - как старый чемодан с металлическими уголками,
в котором хранятся все ненужные вещи, которые жалко выбросить.
В нем валяются старые письма от какого-то из твоих бой-френдов,
сломанные часы, подаренные на совершеннолетие отцом,
твой школьный дневник, сохраненный на память матерью,
сборник стихов Хайяма, пустая пачка от редких сигарет,
учебник латыни, гусиное перо, чехлы для коньков
и прочий ненужный хлам, наваленный туда вперемешку
и мешающий дышать мне -
мне, лежащему на самом дне.
Черт меня дернул быть с тобой нежным, сыпать искрами и не гасить.
Сам не знаю, как подфартило - нарушить ТБ и не сгореть.
Кажется, ты дошла до кондиции и скоро не сможешь без меня жить.
Кажется, ты вот-вот взмахнешь крыльями, сядешь на шкаф и начнешь петь.
Как хорошо, что у меня есть сердце способное вечно тебя любить!
И как все же здорово, что у меня есть нервы, достаточно крепкие, чтобы тебя терпеть!
Я был раздавлен на стенке
Я был раздавлен на стенке в спальне хрущевки
девушкой Катей во время генеральной уборки.
Мальчик Игнат зеленкой пририсовал мне крылья,
пока отбывал наказание в углу за испорченную кофемолку.
Папа Игната - художник - увидел во мне картину
с претензией на гениальность и постмодернизм.
Тогда я был вырезан ножницами вместе с куском обоев
(бежевых, с флером, немецкой компании "Rasch")
и куплен с аукциона за баснословную сумму
в четырнадцать тысяч американских рублей
каким-то чудаковатым японцем, обожающим хокку и танка
и созерцательно пьющим на ужин разбавленную теплую водку под названием сакэ.
Японцы, они вообще очень странные люди -
часами могут сидеть и смотреть на свой пуп,
представляя, что проникают в просторы вселенной,
особенно после разбавленной теплой водки,
которую, кстати, они тоже сперва созерцают,
как-будто от созерцания водка способна стать крепче.
И этот забавный японец по имени Сёдзу
вставил меня в деревянную желтую рамку,
повесил на стену и, приняв сначала на грудь, а потом - позу Будды,
долго и нудно меня созерцал затуманенным взглядом,
чмокал губами, сопел и что-то шептал по-нерусски,
напрочь забыв про каллиграфию, бусидо, и рэндзю...
Так и живу я с тех пор посреди оригами,
хокку, бонсаи, кимоно, икебана, татами,
гейш, камикадзе, хентай, годзилл и просто японцев
- самый обычный российский (когда-то — советский)
раздавленный девушкой Катей во время уборки
и мужем ее превращенный в шедевр постмодернизма
клоп.
Я пуля,
я дура,
и вряд ли уже поумнею.
Да надо ли?..
Ведь то, что я делать умею,
я делаю хорошо.
Я пуля, ты - мой солдат,
я стану твоей навеки,
я верная,
мы будем вместе,
умерев в один день...
Умерев.
Ведь то, что ты называешь сердцем, -
это мой ад,
ведь это МНЕ
холод и вечность,
А тебе - только боль,
которая
скоро пройдет...
Готов?..
Давай, мой хороший:
по грязи,
по ветру,
по кронам деревьев -
на взлет...
ось моей головы
повисла
и машет дровами
и бьется о камень
в попытке нащупать ядро;
насилую клаву,
но демоны все передохли,
и дело не в матери,
дело, похоже, - в тебе.
ты — вирус,
пробравшийся
в LAN моего одиночества;
ты скрипт
отключивший мой файервол,
ты сносишь дрова,
форматишь винты,
ты внедряешься в BIOS...
и, падая в BSOD,
я сдаюсь -
нажимаю
RESET.
Погас огонь свечи, неведомо кому
Зажженный на полу в пустынно-гулком храме,
Где ангелы глядят незрячими глазами,
Молитвы вознося безумству моему.
Разбив оковы дня, я падаю во тьму
Под бой колоколов над вставшими часами.
Исусовых перстов дрожащими губами
Коснусь ли, хоть на миг не изменив Ему?
От боли застонав, паду на пепелище,
Сожгу углями грудь я, венценосный нищий,
Я, судьбы трех миров бросающий во прах.
Иль это только сон, неузнанный в тумане,
А я - всего лишь шут в дешевом балагане,
В улыбке бледных губ скрывающий свой страх?..
Небу невдомек,
что уже полмесяца как пришла весна.
Простуженно кашляя,
небо бросается в город снегом,
липким холодным снегом,
а ветер,
этот промозглый,
гудящий,
по-зимнему мрачный ветер
подхватывает
и куда-то уносит вечер,
во мглу запелёнатый вечер,
оставляя на сердце ночь,
с которой сердцу не справиться,
которая сердцу невмочь.
И сердце,
не выдержав холода,
тоскливого ледяного холода,
впадает в анабиоз,
медленно замерзает...
вздрагивает и замирает...
И, кажется, умирает...
А небу и невдомек,
что уже полмесяца как пришла весна.
Аделаида...
Как шорох и плеск океана.
Как звон колокольчика на пагоде.
Как скрип колеса вечности.
Как шепоток тишины.
Аделаидой назвал я
вон ту звезду на востоке.
И меня не скребет,
как ее называют другие -
Вега, Венера иль, может быть, Альдебаран.
Теперь это — Аделаида,
и это - МОЯ звезда.
Замороженными зимними вечерами
я буду сидеть у окна
и смотреть на мое сокровище.
Я буду слушать как шуршит о песок
шершавый язык океана;
как звенит колокольчик на пагоде
в заснеженном Жикацзэ;
как скрипит колесо вечности,
отсчитывая прожитые кем-то жизни;
как шепчет мне тишина:
Аделаида...
«Идет бычок, качается...»
А. Барто
Бедолага бычок, он по досточке шел и качался,
Мерно жвачку жевал, думал тяжкую думу свою.
Нет такого пути, что когда-нибудь, вдруг, не кончался,
Нет такого бычка, чтоб однажды не встал на краю.
Он искал смысла жизни и жаждал, быть может, падения.
А быть может, он взлета в падении этом искал.
А вокруг тишина рассыпалась, как чьи-то виденья,
И таила судьба свой жестокий звериный оскал.
На последнем шагу, замерев в ожидании чуда,
Взором матовым горестно всю свою жизнь пролистав,
Он шагнул в никуда, а быть может - ушел ниоткуда,
Став печальною притчей иль чьей-то надеждою став.
Ах не знал горемыка, с какою доской он связался!
Позабыл, что у всякой дороги, всегда два конца...
Плакал кто-то в хлеву... Кто-то злобно на кухне смеялся...
И звенели ножи. И в желудках стучали сердца.
Душа мертва. Свершилось преступление...
Стирая с губ несказанное слово,