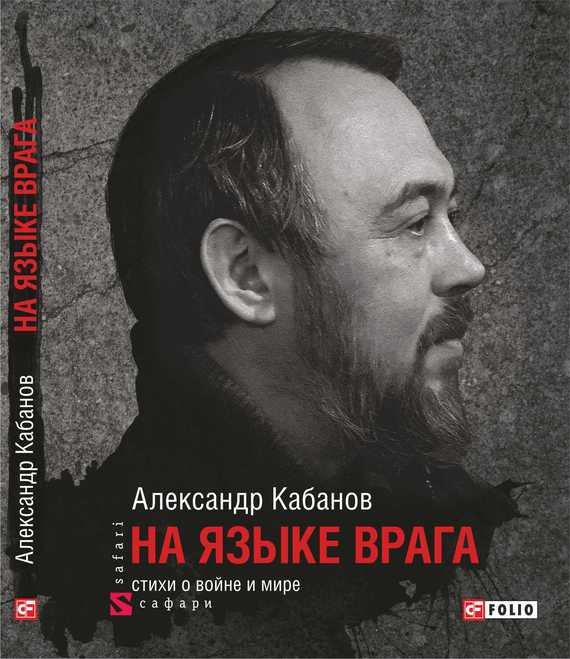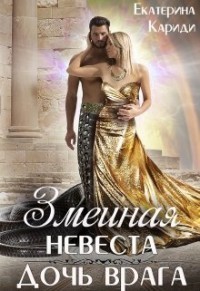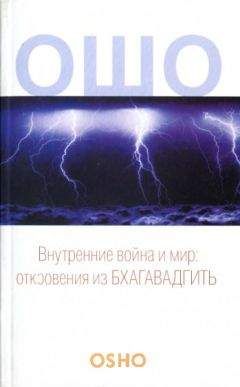Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.
Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.
Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.
«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).
Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди…»
Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Happy бездна to you» (2011).
ушли на заработки в Нирвану»,
людям нужен быстрый Wi-Fi, «наличка»,
однополый секс, и я возражать не стану.
Многорукая вишня меня обнимет: чую —
инфракрасные колокольчики зазвенели,
харе Кришна, что я до сих пор кочую,
харе Рама, в гоголевской шинели.
Поворотись-ка, сынку, побудь завмагом:
сколько волшебных мыслей в твоем товаре,
солнце курит длинную булочку с маком,
острые тени двоятся на харе-харе.
Чуден Ганг, но что-то зреет в его пучине,
редкая птица, не отыскав насеста,
вдруг превращается в точку посередине,
обозначая касту этого текста.
2008
«Янтарь гудел, гудел и смолк…»
Янтарь гудел, гудел и смолк:
смола устала от беседы,
и сердце, как засадный полк —
замрет в предчувствии победы.
И отслоится береста —
сползая со стволов обойно,
моя коробушка пуста,
полным-полна моя обойма.
Янтарь истории гудел,
тряслись над кассою кассандры,
а у меня так много тел:
браток, пора менять скафандры.
И к бластеру, и к топору
опять зовет комбат Исайя,
да, я – предам тебя – умру,
своим предательством – спасая.
«Страх – это форма добра…»
Страх – это форма добра,
ангельский окорок,
ватная тень от Петра
падает в обморок.
Лысый, усатый, рябой
выпил сливовицы,
и, наконец-то, собой —
мертвым становится.
Тень отпоют воробьи,
вместе с медведками:
ужас, как символ любви,
пахнет объедками.
Близким разрывом ложись
к детям, на полочку:
распределяется жизнь —
всем, по осколочку.
Аэроклей «ПВО»,
Олю слукоило:
стоило это того
или не стоило?
Гражданин соколиный глаз,
я так долго у вас, что ячменным зерном пророс,
и теперь, эти корни – мои оковы,
пригласите, пожалуйста, на допрос
свидетелей Иеговы.
В темной башне, как Стивен Кинг:
тишина – сплошной музыкальный ринг,
роковая черточка на мобильном,
я так долго у вас, что опять превратился в свет,
в молодое вино, в покаяние и минет,
в приложение к порнофильмам.
Гражданин соколиный глаз,
я ушел в запас, если вечность была вчера,
то теперь у нее конечности из резины,
для меня любовь – это кроличья нора,
все мы – файлы одной корзины.
В темной башне – дождь, разошлась вода —
жизнь, обобранная до нитки,
и замыслив побег, я тебе подарил тогда
пояс девственности шахидки.
«Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево…»
Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.
А налево больше не было поворота —
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь, прямо иди – там сусанинские болота,
а направо у нас объявлен сезон охоты.
Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь,
мне не нужно знать: на кого ты в потемках дрочишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.
Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала:
чуть помедлив, на корточки возле меня присела,
и наждачным плечом прижалась, и рассказала.
2006
«Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси…»
Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси:
вот картошечка в маслице и селедочка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здравие – чок.
Чудеса должны быть съедобны, а жизнь – пучком,
иногда – со слезой, иногда – с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке —
мимолетная пуля, настоянная на молоке.
Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,
но, и в кипящем котле, не теряй лица,
смерть – сочетание кровушки и сальца.
Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имен ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забытья —
в прошлый век, в 33-й год, в поселок Емильчино:
выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи,
закатилось красное солнышко за леса и моря,
сладкая, ты моя, вкусная, ты моя…»
Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься, и поэтому невредим —
ибо, если появишься – мы и Тебя съедим.
2009
1.
То ливень, то снег пархатый, как пепел домашних птиц,
Гомер приходит в Освенцим, похожий на Аушвиц:
тройные ряды акаций под током искрят едва —
покуда рапсод лопатой сшивает рванину рва,
на должности коменданта по-прежнему – Менелай,
менелай-менелай, кого хочешь – расстреляй,
просторны твои бараки, игривы твои овчарки,
а в чарках – хватает шнапса, и вот – потекли слова.
2.
Генрих Шлиман с желтой звездой на лагерной робе,
что с тобой приключилось, ребе, оби-ван кеноби,
для чего ты нас всех откопал?
Ведь теперь я уже – не костей мешок, не гнилая взвесь,
я совсем обезвожен, верней – обезбожен весь,
что едва отличаю коран и библию от каббал,
от эрзац-молитвы до причастия из картофельной шелухи:
после Освенцима – преступление – не писать стихи.
3.