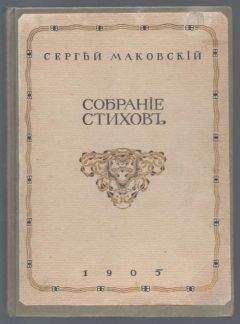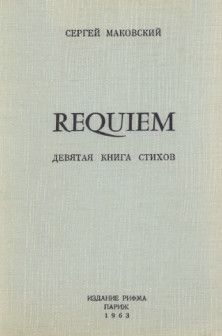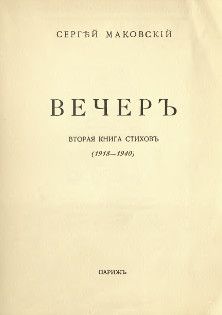Эхо («Душа, поведай мне, зачем…»)
Душа, поведай мне, зачем
стучится ночь в мое окно,
и ветер плачет, и темно,
и неразгаданный никем,
небесный мрак так слеп и нем?
Зачем…
Скажи мне, ночь, куда, куда
в какие бездны вечной тьмы,
которых здесь не знаем мы,
скользят мгновенья и года
и тонут, тонут навсегда?
Куда…
Слепое небо! Отчего
с самим собой наедине
мне страшно слушать в тишине,
когда не слышно ничего,
удары сердца моего?..
Два странника («Кто он? Поведай мне, о странник! Много раз…»)
Кто он? Поведай мне, о странник! Много раз
у этих вод, на берегу далеком,
молился он в раздумии глубоком
и ночь благословлял, не замечая нас.
Слова его мольбы — необычайны.
Печаль нездешняя в напеве их звучит.
Его усталый взор ласкает и грозит,
исполненный любви, греха и тайны.
Кто он? Какие сны он чует в тишине?
В какую даль стремится и откуда?
Я спрашивал людей… И отвечали мне:
«Избранник он, дитя небес и чуда.
Его устами Бог незримый говорит.
Иди к нему. Молись его виденьям.
Тебя утешит он отрадным пеньем,
страдания твои мечтой заворожит».
«Он мученик — другие отвечали —
гонимый завистью и злобою людской.
Иди к нему. Пойми его печали.
Утешь его отзывною тоской».
И я хотел идти к нему смиренно,
чтоб сердце перед ним доверчиво раскрыть,
и я хотел всю скорбь души его испить
как жгучий яд из чаши драгоценной…
Но чьи-то голоса мне прошептали: «Нет!
Не верь ему. Волшебник он лукавый
и лжец»…
О странник! Суд людей был правый!
Я узнаю его. Избранник тот — поэт.
Иди к тебе. Он жизнь свою дарует
неясным призракам, витающим над ним,
он тот, кого с мольбой бесшумный серафим
в уста, как друг таинственный, целует.
Иди к нему. Молись его виденьям.
И если ты, как он чужой земным страстям,
томишься на земле по дальним небесам —
то, может быть, насытив грудь мученьем,
в мученьи ты найдешь отдохновенный храм.
Но если ты томим великой жаждой
борьбы и подвигов, волнений и страстей,
но если мрак и трепет жизни каждой
сливаются с душой отзывчивой твоей,
и если можешь ты без сожаленья,
без ужаса сказать — для жизни жизнь дана,
и улыбаться ей, и пить ее до дна,
до глубины последнего мгновенья —
тогда живи без грез; отдайся весь борьбе
за счастье и за жизнь. Твоей земной судьбе
не нужен рай, поэта рай чудесный.
Поэта манит призрак бестелесный,
обрывы мертвые влекут его к себе.
О странник, знай, когда он воспевает
словами страстными любви могучий бред,
когда земную скорбь от низменных сует
он к жалости и жертве призывает —
быть может, дальше он от жизни и людей,
чем Богом и людьми отверженный злодей.
Ни жалости, ни гнева он не знает.
И кто бы ни был он, безумец иль герой,
от первых, чистых дум и до могилы
поэт — бессильный раб великой силы,
владеющей его смятенною душой.
О странник! В небесах непостижимых
есть звезды дальние, чужие для земли.
Глубокие моря волнуются вдали,
у берегов, земным очам незримых.
Поэт — дрожащий луч тех призрачных миров,
упавший к нам слезой любви и горя.
Поэт — волна таинственного моря,
забытая Творцом у наших берегов.
И оттого, в тиши своих страданий,
внимая голосам неслышным никому,
он вызывает мир воспоминаний
из смутной глубины, неведомой ему.
И оттого, блуждая думой пленной
в холодном царстве снов, он вечно одинок.
И оттого в час скорби вдохновенной
Он плачет, как и дитя и грезит, как пророк…
«День погас. Молитесь тишине…»
День погас. Молитесь тишине
вечерних откровений.
В этот час душа наедине
с обманом сновидений.
Ночь идет. Молитесь небесам
и звездам незакатным.
Сердце ждет и чует, сердце — там,
во мраке необъятном.
Украйна(«В розовом сумраке ивы плакучие…»)
В розовом сумраке ивы плакучие
над пыльной дорогой стоят.
Шорохи вечера, струи певучие
неясно плывут и звенят.
Улица мазанок, тихо мечтающих
средь голубых тополей,
пруд, вереница крестьян проезжающих
и легкие ткани теней —
все выдается узорами нежными
в сияньи закатных лучей.
Издали кажутся хлопьями снежными
стада белокрылых гусей.
Поле раскинулось в ширь беспредельную.
Покоен туманистый свод.
Вечер украинский песнь колыбельную
душе восхищенной поет.
«Представьте: ясный вечер лета…»
Представьте: ясный вечер лета.
Полутемно в большой гостиной;
лишь змейки розовые света
дрожат на мебели старинной.
Представьте: ясный вечер лета!
В окно из сумрачного сада
цветы струят благоуханья.
Неясный гул, мычанья стада
и мух вечерние жужжанья —
в окно из сумрачного сада.
На стеклах отблеск мутно-алый
давно погасшего светила.
В усадьбе странно. День усталый
глядит на то, что было, было…
На стеклах отблеск мутно-алый.
И в этот час вся жизнь обманна
вся жизнь, как марево пустыни,
представьте… кто-нибудь нежданно
возьмет аккорд на клавесине…
В тот час, когда вся жизнь обманна.
«Юная рожь не дрожит, не колышется….»
Юная рожь не дрожит, не колышется.
Тенью недвижной объяты поля.
В воздухе ясном ни звука не слышится.
Спит, отдыхая, земля.
Спит, безграничным молчанием скованный,
в золоте алом хрустальный шатер.
Спит, тишиной небес заколдованный,
мирный, ленивый простор.
Вечер! Ты в душу мне тихо вливаешься,
шепчешь невнятно про тайну свою,
думой, восторгом моим наполняешься,
делишь тревогу мою!
У плотины («В час заката, у плотины…»)
В час заката, у плотины
рядом с мельницей убогой,
вспоминаю я былое.
Эти мирные равнины,
это небо золотое —
навевают мне так много!
Спят давно леса и нивы.
Облака над степью тают,
опаленные зарею.
И серебряные ивы
над застывшею рекою
слезы тихие роняют.
Грустно. Сумрак молчаливый —
друг печали, друг любимый —
весь исполнен ожиданья…
Спят давно леса и нивы,
и струит воспоминанья
час заката нелюдимый.
Грустно. Словно вечер знает,
сколько тайны в нем сокрыто,
словно в тихий час заката,
умирая, вспоминает,
все, что умерло когда-то
и навеки позабыто.
Дуб («На поляне лесной исполин вековой…»)
На поляне лесной исполин вековой
одиноко спит,
в мураве молодой на поляне лесной
древний дуб стоит.
Много весен и зим отшумело над ним,
он и хмур и сед;
но стоит невредим всем дубам молодым
старый, старый дед.
Много видел он слез и невзгод перенес
в дни былых годин,
но от ветра и гроз, как гранитный утес,
он не пал один.
Зеленеющий всход на поляне цветет…
Только он поник.
От весны он не ждет ни утех, ни забот:
глух и нем старик.
Меж соседей своих он не видит родных.
Пусть шумит весна!
Он навеки затих, сновидений былых
его грусть полна.
Он грустит о лесах, где в зеленых шатрах
был он — гордый царь,
о могучих дубах, да о тех соловьях,
что певали встарь…
На поляне лесной исполин вековой
смотрит в чуждый бор.
Он поник головой, и грозы роковой
ждет он с давних пор.
Белая ночь («Холодное, странное, серое море…»)