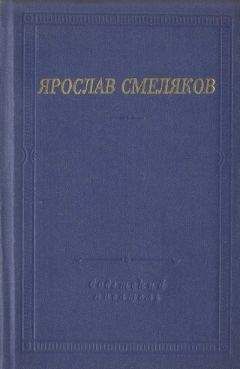СМОЛЕНСК
Давайте вспомним о Смоленске.
Он в списке городов других —
как тихий житель деревенский —
среди рабочих разбитных.
Тебя я, пусть немного, знаю,
гляжусь в тебя издалека,
столица русская льняная,
юдоль лопаты и штыка.
Там, где шумят леса глухие,
полей и перелесков тишь,
валы насыпав земляные,
ты пол-России сторожишь.
Его холмы стоят, как надо,
всю ночь горят его огни.
Пускай тут вовсе нету кладов,
а только кладбища одни.
Он славных подвигов предтеча,
ему история мила.
Когда идет поодаль сеча,
его гудят колокола.
Он неторопко дело знает,
без похвальбы и без хулы.
И перья медные роняют
над ним залетные орлы.
Я приятности нахожу
в том, что, словно бы голубица,
с легким шелестом прохожу
через таможни и границы.
Ведь во время войны не так, —
без улыбочек, без идиллий,
развивая огонь атак,
в эти местности мы входили.
Знают Со́фия и Белград,
помнят люди немолодые,
где под камнем могильным спят
комсомольцы самой России.
На войну уходя сперва,
не успели они жениться;
их единственная вдова —
наша северная столица.
Гул тогдашней войны затих,
но она всё, как подобает,
обручальных колец своих
с пальцев каменных не снимает.
Где вы ходите ныне?
Потерялся ваш след,
давних дней героини,
слава старых газет.
Помню вас на плакатах
в красном мареве слов
тех далеких тридцатых,
переломных годов.
На делянках артели,
на трибунах больших
вы свое отзвенели,
голоса звеньевых.
Сделав главное дело,
дочки нашей земли
из высоких пределов
незаметно сошли.
Возвратились беглянки
из всеобщей любви
на свои полустанки,
в сельсоветы свои.
И негромко, неслышно
снова служат стране
под родительской вишней,
от столиц в стороне.
Их недолгую славу
и тогдашний почет
смутно помнит держава
средь новейших забот.
Но, однако ж, бывает,
что под праздник она,
засветясь, называет
тех подруг имена.
Без промедленья и опаски,
как в марте трепетный апрель,
я слышу запах типографский
хотя б за тридевять земель.
Я чую мокрые страницы
ночного позднего труда,
как словно старая волчица
овечьи мирные стада.
Неповторимо и повторно
навеки обожаю я
цех типографии наборный
и стук вечернего литья.
Недавно ездя по Востоку,
куда отправил нас журнал,
я свет увидел одинокий
и в типографию попал.
Здесь набирала буквы с толком,
от удовольствия шепча,
широкоскулая монголка
в халате с братского плеча.
Халат как раз такой окраски —
он лучше выглядеть не стал —
я в той бригаде типографской
в туманной юности таскал.
Как будто здесь, в степи прогоркшей,
его я скинул сгоряча
и отдал ей, как шуба Орше
дарилась с царского плеча.
Под пристани гомон прощальный
в селе, где обрыв да песок,
на наш теплоходик недальний
с вещичками сел паренек.
Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет, —
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.
По этой-то воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз
мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.
Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.
Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.
Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.
Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.
Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежке у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.
Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.
Поэтому, хоть небогато —
нам не с чего тут пировать,—
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.
Решили хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.
Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?
Я увидал на той неделе,
как по-солдатски наравне
четыре сверстника в шинелях
копали землю в стороне.
Был так приятен спозаранку
румянец этих лиц живых,
слегка примятые ушанки,
четыре звездочки на них.
Я вспомнил пристально и зорко
сквозь развидневшийся туман
ту легендарную четверку
и возмущенный океан.
С каким геройством непрестанным
от человечества вдали
солдаты эти с океаном
борьбу неравную вели!
С неиссякаемым упорством,
не позабытым до сих пор,
свершалось то единоборство,
не прекращался тяжкий спор.
Мы сразу их назвали сами,
как разумели и могли,
титанами, богатырями
и чуть не в тоги облекли.
Но вскоре нам понятно стало,
что, обольщавшие сперва,
звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.
И нам случилось удивиться,
увидевши в один из дней
не лики строгие, а лица
своих измученных детей,
обычных мальчиков державы,
сумевших в долгом том пути
жестокий труд и бремя славы
с таким достоинством нести.
В своих пристрастьях крайне стойкий,
не покидая главный класс,
я побывал на Братской стройке
и даже, помнится, не раз.
На эстакаде, без подначки,
стоял я, сын других времен,
как землекоп с дощатой тачкой
меж металлических колонн.
И как-то сдуру — между нами —
совсем не к месту позабыл,
что этой станции фундамент
я сам с друзьями заложил.
Но всё равно, потом и сразу,
среди чудес и пустяков,
меня прельстили верхолазы
в разводьях вешних облаков.
Они, ходя обыкновенно,
не упуская ничего,
вели второй монтаж вселенной
не плоше бога самого.
Им на земле уже неловко,
они обвыклись в небесах,
и звенья цепи для страховки
висят у них на поясах,—
той цепи, что при царской власти,
чтоб и бунтарь бессильным был,
и на ногах и на запястьях
устало каторжник носил;
той цепи, что в туманной дали,
власть отнимая и беря,
отцы и деды разорвали
осенней ночью Октября.
Не на окне,
а посредине прямо,
близ подмосковных
веток и ветвей
бамбуковые шторы
из Вьетнама
стучат,
колеблясь,
в комнате моей.
По вечерам
и рано на рассвете,
среди моих
идиллий и забот,
колышет их
военный дальний ветер,
сюда идущий
из других широт.
Не далеко,
а чуть не на пороге,
зовя в свой край
отмщения и мук,
он всё стучит,
как барабан тревоги,
в моем жилье,
оттудова бамбук.
О, эти шторы,
зыбкие скрижали!
Я не могу
и не хочу их снять.
Их сколько бы
рукой ни раздвигали,
они всегда
смыкаются опять.