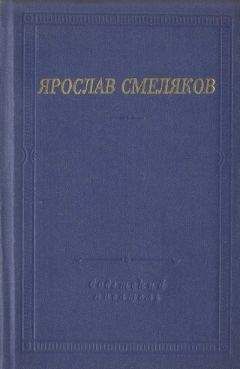ШТОРЫ ИЗ ВЬЕТНАМА
Не на окне,
а посредине прямо,
близ подмосковных
веток и ветвей
бамбуковые шторы
из Вьетнама
стучат,
колеблясь,
в комнате моей.
По вечерам
и рано на рассвете,
среди моих
идиллий и забот,
колышет их
военный дальний ветер,
сюда идущий
из других широт.
Не далеко,
а чуть не на пороге,
зовя в свой край
отмщения и мук,
он всё стучит,
как барабан тревоги,
в моем жилье,
оттудова бамбук.
О, эти шторы,
зыбкие скрижали!
Я не могу
и не хочу их снять.
Их сколько бы
рукой ни раздвигали,
они всегда
смыкаются опять.
С неба падает снег зимы.
Осторожно, благоговея,
приближаемся тихо мы —
вдоль по площади — к Мавзолею.
Белым снегом освещена
и насыщена красным блеском
на молчанье твоем, стена,
революции нашей фреска.
Тут который уж год подряд
по желанию всей России
у гранитных дверей стоят
неподвижные часовые.
Хоть январский мороз дерет
и от холода саднит скулы,
ни один из них не уйдет
из почетного караула.
Как они у державных плит,
для тебя, седина и детство,
вся страна день и ночь хранит
правду ленинского наследства.
Ливень хлещет, метель метет,
в небе молния проблеснула —
ни один из нас не уйдет
из почетного караула.
1968
337. ДИАЛОГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДИСКУССИИ ОБ ИСКУССТВЕ В «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»
Первый голос
В эти дни космической ракеты
и автоматических станков
позабудьте, выбросьте, поэты,
допотопных ваших соловьев!
Всё искусство, вместе с жалким сором,
вынесьте и выкиньте за тын:
тот, кто разбирается в моторах,
выше толкователей картин.
Второй голос
Этот спор, что не затих поныне,
начат был еще в далекий век…
Быть лишь добавлением к машине —
для тебя не много, человек!
Как же ты живешь, ответь на это, —
с беспокойством спрашиваю я,—
если в дни космической ракеты
ты не слышишь пенья соловья?
<1960>
Должно быть, старость стукнула в ворота:
на мемуары тянет день за днем.
Я дядюшку Тодося вспомнил что-то,
мне захотелось рассказать о нем.
Припомнились очки в оправе старой,
обмотанные ниткой так и сяк
(подробность украшает мемуары),
а на плечах — не свитка, не пиджак,
а вроде бы сюртук великопанский,
разодранный с плеча и до плеча
(когда-то дивный мастер Саксаганский
играл в такой одежде Копача),
и теплый дух живицы, вместе с воском
замешенной в садовом черепке,
и свернутую крупно папироску,
горящую в натруженной руке.
Всем россказням его неимоверным,
одна другой занятней и хитрей,
могли бы позавидовать и Стерны,
и чудаки наиновейших дней.
Бывал Тодось в Сибири и Китае,
невиданных ловил зверей и птиц.
И я, мальчонка, слушал, замирая,
хитросплетенья длинных небылиц
о редкостных событьях и удачах,
каких еще не видел этот свет:
о том, как с Чемберленом он рыбачил,
как ел себя спокойно самоед;
про хитрого и злобного хунхуза,
и про ханжу — китайский самогон…
Какая только нашептала муза
ту смесь брехни и правды!.. Ведь и он
своим рассказам верил чуть не свято,
не отличая правды от брехни.
Вот почему к нему я бегал в хату
и проводил там сказочные дни,
как бы готовясь к званию поэта…
Таких фигур, запомни, молодежь,
не так-то много есть по белу свету,
в литературе больше их найдешь.
Но если б просто был он трафаретом,
повествовать не стал бы я о нем.
В его избе (сказал мне под секретом
мой друг Ясько), в году известном том,
когда из черной глубины Цусимы
набат проклятый глухо прозвучал
и перед всем народом — полузримо —
грядущий день забрезжил, заблистал,
ну, словом, — без излишних аллегорий, —
когда потряс всю землю пятый год,
в избе Тодося, богачам на горе,
сходился забастовочный народ.
Избе убогой дядюшки Тодося —
он сам ее по бревнышку сложил —
не раз в то время слышать довелося
речей наивных неуемный пыл.
Бывал под этой кровлей «Дядя Ваня»
(Ясько мне тихо объявил: эсдек!)
и те предтечи, что в туманной рани
провозглашали новой жизни век.
Нагаек свист, тоска тюремной доли
вас не страшили. Утром досветла
вы рассевали на широком поле
весну — она не скоро расцвела.
Мне кой-кого из них встречать пришлося
средь генералов современных лет;
одно упоминание Тодося
в глазах их добрый зажигает свет.
Седой боец, как мальчик, улыбался,
но, услыхав про смерть его, стихал.
…Сам дядюшка не очень разбирался
в премудростях ученых. Мне сказал
барчук из просвещенных шалопутов
(его не назову я даже вкось),
что Карла Маркса с петербургским путал
издателем наивнейший Тодось.
Я, как наездник, память обращаю
из этих дней — в ушедшие назад:
мне кажется, что снова я вбегаю
в давно отцветший стариковский сад.
Себя сравнить я с Пушкиным не смею,
и мой Тодось не Энгельгардт ничуть,
но сад его был мне как сад лицея,
в котором Пушкин начинал свой путь.
Он новшеств не любил в садовом деле,
но был привержен этому труду,
и по старинке, в марте и апреле,
прививки делал в собственном саду.
Недвижно стоя около ранета,
пока окулировку делал он,
я к немудреным дедовским секретам
был все-таки, отчасти, приобщен.
Жаль до сих пор, что тех приемов тонких
не перенял я, ученик тупой,
из-за того, что в детской головенке
уже толпились рифмы вразнобой.
Я и теперь, проснувшись спозаранку
иль сидя у раскрытого окна,
двух стариков — Мичурина, Бербанка —
шепчу благоговейно имена.
Не опасаюсь я признаться даже,
что их делам завидовать готов.
Пусть человек для человека вяжет
гирлянды из невиданных плодов.
Пусть по канве земли он вышивает
не виданные ранее цветы
и пусть в природу вечную вливает
свои живые мысли и мечты.
Нет, мой Тодось, скажу об этом смело,
был мало на Мичурина похож,
но все-таки свое вершили дело
его лопатка и садовый нож.
Тот майский сад, в котором он годами
возился ввечеру и на заре,
все ветви, отягченные плодами,
склонял к земле в янтарном октябре.
О молодежь, поднявшаяся ныне,
подобная лучащейся весне,
родился в тьме я, вырос я в пустыне,
но сад и солнце вечно снились мне.
Цветет наш сад, шумят вовсю колосья,
открыта даль под небом голубым.
Хочу, чтоб все вы вспомнили Тодося
со мною словом тихим и не злым.
<1962>
Тебя не раз при мне хвалили, Киев,
восторг всеобщий вызываешь ты!
Совсем не лесть признания такие,
а только подтвержденье красоты.
Асфальт прикрыт листвою желто-ржавой,
но сквозь нее темнеет и блестит.
Уже рыжеют на газонах травы
и дождь упорно день и ночь стучит.
И, распрощавшись с нашими краями,
летят в края чужие птицы, те,
каких зовут ученые стрижами, —
я ласточками звал их в простоте.
Но полыхают огненные канны
и георгины душу веселят…
Пришла пора работы долгожданной,
а не пора печалей и утрат.
Рачительная осень, как хозяйка,
в амбар ссыпает урожай златой,
и раскрывает дали без утайки,
и озимью блистает молодой.
Как счастлив я, что Киев наш осенний,
наш древний Киев радостен и нов
в большом труде, в горении, в движенье,
в строительстве заводов и домов.
<1962>