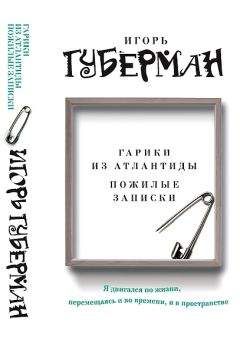916
Вновь я сигарету закурил,
с жалостью подумавши о том,
как нам не хватает пары крыл —
я бы помахал, проветря дом.
Творя поступки опрометчиво,
слепцом я был, ума лишённым,
а после делать было нечего,
и я гордился совершённым.
Глупость жуткую я допустил,
и теперь моя песня допета:
я, живя, то гулял, то грустил,
но нельзя было смешивать это.
Спокойно, вдумчиво, подробно
я проживаю день за днём
и, Прометею неподобно,
лишь со своим шучу огнём.
Напичкан я различной скверной,
изрядно этим дорожа:
я ценен Богу службой верной,
собой таким Ему служа.
Я тащусь от чудес и загадок,
обожаю любые игрушки,
для меня упоительно сладок
запах розы и прочей петрушки.
В дар за опрометчивую смелость
полностью довериться удаче
всё со мной случалось, как хотелось, —
даже если было всё иначе.
Уже весьма дыряв челнок мой утлый,
а воду я черпаю — решетом,
зато укрыт я небом, как зонтом,
и ветер в голове моей — попутный.
Судьба не скупилась на пряник,
но била за это — втройне,
и я, как Муму и «Титаник»,
валялся у жизни на дне.
Проворен, ловок и сметлив,
я был рачительным старателем
и выжил, капли не пролив
из рюмки, налитой Создателем.
Вся жизнь моя — несвязный монолог,
где смех и грех текут одновременно,
и если не заметил это Бог,
то дьявол это видит непременно.
Наверно, от упрямства и нахальства,
хотя не воевал и не брюзжал,
награды и доверия начальства
ни разу я при жизни не стяжал.
Нет, я трудом себя не мучаю,
бегу от мелкого и всякого,
труд регулярный и по случаю
душе противны одинаково.
Я на пошлом киче сердцем таю,
всюду вижу кич издалека,
даже облака, где я витаю, —
это кичевые облака.
Мне сон важней иных утех,
ночами сплю и днями мглистыми,
я досыпаю время тех,
кто был разбужен декабристами.
Деревья сумрачно растут,
могилы тесно окружив,
я совершил кощунство тут,
журчаньем празднуя, что жив.
Память наша густо поросла
дырами на месте стыдных бед,
в ней уже сегодня без числа
разных неслучившихся побед.
Хотя надежд у нас избыточно,
ещё прибавится и впредь;
что большинство из них несбыточно,
нам наплевать и растереть.
Ни к астрологии, ни к хиромантии
я не кидаюсь, надеясь на фарт,
сердце стучит, как часы без гарантии,
это верней и цыганок, и карт.
Направляясь в мир иной
с чинной непоспешностью,
я плетусь туда хмельной
и с помятой внешностью.
Живу я пассивно и вяло,
за что не сужу себя строго:
я дал человечеству мало,
однако и взял я немного.
Да, был и бабник я, и пьяница,
и враг любого воздержания,
зато желающим останется
дурной пример для подражания.
Умрут со мной мечты мои немые,
лишь там я утолю свои пылания,
где даже параллельные прямые
сойдутся, обезумев от желания.
Ждут меня, безусловно, в аду
за влечение к каждой прелестнице,
но, возможно, я в рай попаду
по пожарной какой-нибудь лестнице.
Ничуть не думаю о том,
как вид мой злобу в ком-то будит;
потом умру я, а потом
любить меня престижно будет.
Я не улучшусь, и поздно пытаться,
сыграна пьеса, течёт эпилог,
раньше я портил себе репутацию,
нынче я порчу себе некролог.
Ещё совсем уже немножко,
и на означившемся сроке
земля покроет, как обложка,
во мне оставшиеся строки.
Когда-то мысли вились густо,
но тихо кончилось кино,
и в голове не просто пусто,
но глухо, мутно и темно.
С Талмудом понаслышке я знаком
и выяснил из устного источника:
еврейке после ночи с мясником —
нельзя ложиться утром под молочника.
Хотя ещё смотрю на мир со сцены,
хотя почти свободен от невзгод,
но возраста невидимые стены
растут вокруг меня из года в год.
Об угол биться не любя,
углов я не боюсь,
я об углы внутри себя
гораздо чаще бьюсь.
Странная всегда варилась каша
всюду, где добру сперва везло:
близилась вот-вот победа наша,
но торжествовало — снова зло.
Придя из темноты, уйду во мрак,
евреями набит житейский поезд;
дурак еврейский — больше, чем дурак,
поскольку энергичен и напорист.
В каждом зале я публики ради
чуть меняю стихи и репризы,
потому что бывалые бляди
утоляют любые капризы.
Живу я праведно и кротко,
но с удовольствием гляжу,
как пышнотелая красотка
в кино снимает неглижу.
Почти каждый вечер томлюсь я и таю,
душой полыхаю и сердцем горю;
какую херню я при этом читаю,
какую хуйню я при этом смотрю!
Теперь я часто думаю о Боге,
о пламени загробного огня,
и вижу, подводя свои итоги,
как сильно подвели они меня
Хотя врачи с их чудесами
вполне достойны уважения,
во мне болезни чахнут сами
от моего пренебрежения.
Уже который год подряд
живу я тускло, вяло, бледно,
и я б охотно принял яд,
но для здоровья это вредно.
Увы, челнок мой одинокий
уплыть не в силах далеко:
хотя старик уже глубокий,
а мыслю я неглубоко.
Я крепко в этой жизни уповал
на случай, на себя и на авось,
поэтому ни разу наповал
ещё меня свалить не удалось.
Угрюмой страсти не тая,
полна жестокого томления,
давно спилась душа моя
и к ночи жаждет утоления.
Думаю во дни утрат и бедствий,
как жесток житейский колизей,
лишь растёт за время путешествий
список одноразовых друзей.
Мучась недоверием к уму
или потому, что духом нищи, —
люди ищут Бога. Но Ему
ближе те, которые не ищут.
Видит Бог — не до дна высыхают
соки жизни в дедах и папашах,
и желания в нас полыхают,
охуев от возможностей наших.
Было в долгой жизни много дней,
разного приятства не лишённых,
думать нам, однако же, милей
о грехах, ещё не совершённых.