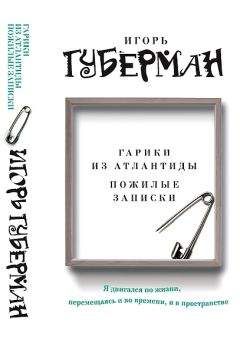19
Было в долгой жизни много дней,
разного приятства не лишённых,
думать нам, однако же, милей
о грехах, ещё не совершённых.
В Израиле, в родной живя среде,
смотрю на целый мир я свысока;
такой страны прекрасной нет нигде;
но нету и у нас её пока.
Никто ловчей, чем лилипуты
различных видов и размеров,
не изготавливает путы,
чтобы стреножить Гулливеров.
Борьба со злом — извечная игра,
её шторма и штили хаотичны;
забавно, что апостолы добра
по большей части мало симпатичны.
Над этим сильно поработав,
я преуспел в конце концов:
стал дураком у идиотов
и мудаком — у мудрецов.
Всякий миф обо мне справедлив,
я такой, а не просто плохой:
рыбу в мутной воде половив,
из воды выхожу я сухой.
Стиха причудливая вязь,
питаясь внутренним горением,
таит загадочную связь
духовности с пищеварением.
Не слесарь, не философ, не правитель,
я мелкое своё клюю пшено,
однако я типичный представитель
чего-то, что названья лишено.
Нет печали, надрыва и фальши
в лёгких утренних мыслях о том,
как заметно мы хуже, чем раньше,
хоть и лучше, чем будем потом.
В людях, на книгах воспитанных,
дремлют опасные дрожжи:
множество мыслей прочитанных
сам сочиняю я позже.
Теперь душа моя пуста,
ей чужд азарт любого вида,
и суп из бычьего хвоста
мне интересней, чем коррида.
В потоке мыслей, слов, деяний —
мне всюду видится игра,
где зло в любом из одеяний —
тень или следствие добра.
Я стал отшельник и бирюк,
боюсь мельканья слов и лиц,
теперь познания урюк
я молча ем с немых страниц.
Я довольно выигрышный вытянул билет:
не был генералом, не был депутатом,
самой хилой премии не было и нет;
но хворая, хочется быть лауреатом.
Есть люди — их повадка так решительна,
как будто ими истина добыта,
их речь — неотразима и внушительна,
и в мягкое обёрнуты копыта.
Увы, но в учебники школьные,
чтоб жалоб не слали родители,
мои сочинения вольные
не станут включать составители.
Те — рискуют, играя ва-банк,
те — в конфузливом чахнут неврозе,
а еврей — он и наглый, как танк,
и застенчив, как хер на морозе.
Как ни прячься, как ни спорь и как ни лги
как ни рыскай, словно заяц по полям,
а приходится сполна платить долги
по чужим и коллективным векселям.
На жизненном пути в любом из мест
бывало то забавно мне, то лестно,
что многие мне свой совали крест,
надеясь понести его совместно.
Мы так во всём различны потому,
что Бог нас лепит в разном настроении,
а если поднесли стакан Ему, —
видны следы похмелья на творении.
Я думаю о грязи, крови, тьме,
о Божьем к нашей боли невнимании;
я думаю о Боге — Он в уме?
И ум ли это в нашем понимании?
Всего одна в душе утрата,
но возместить её нельзя:
Россия, полночь, кухня чья-то
и чушь несущие друзья.
Не ликуйте, закатные люди,
если утром вы с мыслями встанете:
наши смутные мысли о блуде
не из тела плывут, а из памяти.
России только те верны,
кого навек постигло мнение,
что не могло судьбу страны
просрать её же население.
Русское грядущее прекрасно,
путь России тяжек, но высок;
мы в говне варились не напрасно,
жалко, что впитали этот сок.
Как пастух Господь неумолим,
но по ходу жизни очень часто
мне бывает стыдно перед Ним,
как Его наёбывает паства.
Я не пью, а дамам в ушки
лесть жужжу, как юный шмель,
я сегодня на просушке,
я лечу вчерашний хмель.
Не лучший представитель человечества,
я зря так над Россией насмехался:
мне близок и любезен дым отечества,
в котором я хрипел и задыхался.
И понял я, что это возрастное,
виной тут не эпоха, а года:
знакомые приходят на съестное,
а близких — унесло кого куда.
Туманный мир иллюзий наших —
весьма пленительный пейзаж,
когда напитки в тонких чашах
перетекают в нас из чаш.
Недаром Талмуд запрещает евреям
рулады певичек: от них мы дуреем;
у пылких евреев от женского пения —
сумятица в мыслях и с пенисом трения.
Душе быть вялой не годится:
холёна если и упитана,
то в час, когда освободится,
до Бога вряд ли долетит она.
То время, когда падал и тонул,
для многих было столь же непогоже,
я помню, кто мне руку протянул,
а кто не протянул, я помню тоже.
На всех я не похож — я много хуже,
со вкусом у меня большой провал:
я часто отраженью солнца в луже
не менее, чем солнцу, рад бывал.
Настало духа возмужание;
на плоть пора накинуть вожжи;
пошли мне, Боже, воздержание,
но если можно, чуть попозже.
Да, Господь, умом я недалёк,
только глянь внимательно и строго:
если я кого-нибудь развлёк —
значит, он добрее стал немного.
Делам общественным и страстным
я чужероден и не гож,
я стал лицом настолько частным,
что сам порой к себе не вхож.
Рассудок мой, на книгах повреждённый,
как только ставишь выпивку ему —
несётся, как свихнувшийся Будённый,
в пространства, непостижные уму.
Один печалящий прогал,
одно пятно в душе осталось:
детишек мало настрогал
я за года, когда строгалось.
Русь воспитывала души не спеша,
то была сурова с ними, то нежна,
и в особенности русская душа —
у еврея прихотлива и сложна.
Былое пламя — не помеха
натурам пылким и фартовым,
былых любовей смутно эхо
и не мешает песням новым.
Во мне пылает интерес
и даже зависть есть отчасти,
когда читает мелкий бес
про демонические страсти.
В судьбе — и я, мне кажется, не вру —
ещё одна есть нить помимо главной:
выигрывая явную игру,
чего-то мы лишаемся в неявной.
Уже давным-давно замечено,
и в этом правда есть, конечно:
всегда наружно искалечено
то, что внутри не безупречно.
Безжалостна осенняя пора,
пространство наслаждений стало уже,
и если я напьюсь теперь с утра,
то вечером я пью гораздо хуже.