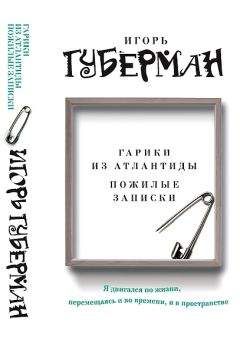108
Когда мы полыхаем, воспалясь,
и катимся, ликуя, по отвесной,
душевная пленительная связь
немедленно становится телесной.
Душа полна укромными углами,
в которых не редеет серный чад,
в них черти машут белыми крылами
и ангелы копытами стучат.
Лишь гость я на российском пировании,
но мучаюсь от горестной досады:
империя прогнила в основании,
а чинятся и красятся — фасады.
Дух упрямства, дух сопротивления —
с возрастом полезны для упорства:
старость — это время одоления
вязкого душевного покорства.
Стихи с поры недавней, вот ведь жалость,
ушли куда-то, сгинули под лёд,
и странно мне, что музыка осталась,
но слов уже на танцы не зовёт.
Душевной доблести тут нет,
но не стыжусь я вслух признаться,
что я люблю не звон монет,
а тонкий шорох ассигнаций.
Бывает очень странно иногда,
как будто умирал и снова ожил:
какие-то в минувшем есть года,
которые не помню, как я прожил.
И гнетёт нас, помимо всего —
бытия после смерти неясность;
очень тяжко — не ждать ничего,
легче ждать, понимая напрасность.
Покой наш даже гений не нарушит
высокой и зазывной мельтешнёй,
поскольку наши старческие души
уже не воспаляются хуйнёй.
Пора мне, ветхому еврею,
жить, будто я уже отсутствую;
не в том беда, что я старею,
а в том, как остро это чувствую.
Пустого случайного слова
порою хватает сполна,
чтоб на душу мне из былого
плеснула шальная волна.
Зябну я в нашем рае земном,
слыша вздор пожилых пустомель;
мы — сосуды с отменным вином,
из которого выдохся хмель.
У зла с добром — родство и сходство:
хотели блага все злодеи,
добро всегда плодило скотство,
а зло — высокие идеи.
Бурлит в нас умственная каша —
намного глубже понимания,
и чем темнее память наша,
тем ярче в ней воспоминания.
Нынче грустный вид у Вани,
зря ходил он мыться в баньку,
потому что там по пьяни
оторвали Ваньке встаньку.
К моим добавлю упущениям,
что не люблю любой нажим,
и верю личным ощущениям
гораздо больше, чем чужим.
Давно живя, люблю поныне я
зигзаги, петли и штрихи,
и зря скребётся грех уныния,
пока покруче есть грехи.
Судьба нас искушает на повторах:
житейский наблюдая карнавал,
я вижу ситуации, в которых
не раз уже по дурости бывал.
Где б ни случился я под вечер,
я глазом сыскивал бокал,
который мне о скорой встрече
прозрачным боком намекал.
Дышу. Курю. Гоню волну.
Люблю душевное томление.
Господь не ставит мне в вину
благочестивое глумление.
Есть радости у дряхлых старичков,
и счастливы бывают старички:
сыскался вдруг футляр из-под очков,
а к вечеру на лбу нашлись очки.
Книга жизни — первый том,
он уже написан весь,
а про всё, что ждёт потом,
сочиню, Бог даст, не здесь.
Хотя на русской почве я возрос,
еврейской обволокся я духовностью:
вопросом отвечаю на вопрос
и пакостей от жизни жду с готовностью.
В азарте Божий мир постичь
до крайней точки и конца,
мы все несём такую дичь,
что плохо слышим смех Творца.
Хотя уже я сильно старый,
во мне талант ещё сочится:
с утра пишу я мемуары
про то, что днём со мной случится.
Чем потревожен дух народа?
О чём народ в толпе галдит?
О том, что подлая погода —
футболу нынче повредит.
К бутылке тянется не каждый,
кто распознал её влияние:
Бог только тех отметил жаждой,
кому целебно возлияние.
Природа позаботилась сама,
чтоб видно было, слушая ублюдка,
насколько выделения ума
подобны извержениям желудка.
Шумливы старики на пьяной тризне:
по Божьему капризу или прихоти,
но радость от гуляния по жизни
заметно обостряется на выходе.
Хочу, поскольку жить намерен,
сейчас уже предать огласке,
что даже крайне дряхлый мерин
ещё достоин женской ласки.
Я с юности грехами был погублен,
и Богу мерзок — долгие года,
а те, кто небесами стал возлюблен,
давно уже отправились туда.
Я не мудрец и не дебил,
и без душевного дефекта,
но не люблю и не любил
я выебоны интеллекта.
Увы, но зимний холод ранний —
судьбу меняет наотрез:
вчера пылал костёр желаний,
сегодня — тлеет интерес.
У Бога есть увеселения,
и люди гибнут без вины,
когда избыток населения
Он гасит заревом войны.
В мечтах мы въезжали на белом коне
в тот город, где нам отказали,
в реальности — грустно сопели во сне
ночуя на шумном вокзале.
Стал часто думать я о Боге —
уже позвал, должно быть, Он,
и где-то клацает в дороге
Его костлявый почтальон.
Конечно, что-нибудь останется,
когда из года в год подряд
тебе талантливые пьяницы
вливали в душу книжный яд.
Хоть я теолог небольшой,
но нервом чувствую сердечным:
Господь наш тайно слаб душой
к рабам ленивым и беспечным.
Где льётся благодать, как из ведра,
там позже — неминуемые бедствия,
поскольку сотворителям добра —
плевать на отдалённые последствия.
Беда в России долго длится:
такие в душах там занозы,
что чем яснее ум провидца,
тем сумрачней его прогнозы.
Российскую публичную шарманку
я слышу, хоть и выставлен за дверь:
в ней то, что было раньше наизнанку,
то шиворот-навыворот теперь.
А впереди ещё страницы
растущей тьмы и запустения,
но мы не чувствуем границы
преображения в растения.
Не трудно, чистой правдой дорожа,
увидеть сквозь века и обстоятельства
историю народов и держав —
театром бесконечного предательства.
Давно уже иной весь мир вокруг,
и прошлое — за облаком забвения,
но с ужасом ещё ловлю я вдруг
холопские в себе поползновения.
Во имя чаяний благих
на том советском карнавале
ничуть не реже, чем других,
самих себя мы предавали.